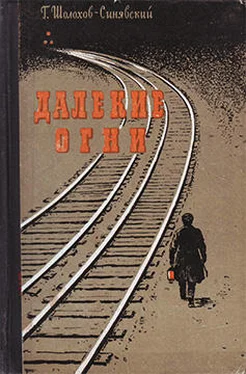Синебрюхов буркнул что-то невнятное, полез в вагон.
Поезд ушел. Ясенский сразу ощутил знакомое чувство свободы и облегчения. Лень и усталость, досада и раздражение мигом отлетели от него. Здесь, на этой тихой степной станции, никто не смел досаждать ему докладами, кляузами и жалобами. Он чувствовал себя, как в годы студенчества и практики. То было время скитаний в изыскательских партиях, ночевок в крестьянских избах и в наскоро разбитых палатках, веселых студенческих пирушек и мимолетных любовных приключений на глухих полустанках. Какое хорошее и беззаботное было время!.. А главное, он был тогда моложе, его мало беспокоили соображения карьеры и политики…
Ясенский приказал Антипе Григорьевичу подать дрезину. Рабочие выкатили ее, уселись, почтительно сняв засаленные картузы.
— Куда прикажете, Владислав Казимирович? — старчески жмурясь, спросил Антипа Григорьевич.
— На седьмой околоток. Вы поедете со мной, а оттуда вернетесь. Посмотрим мост сто десятой версты.
Рабочие переглянулись: они знали, о каком мосте шла речь.
Старик, кряхтя, взобрался на сиденье, поставил между ног шаблон. Дрезина покатила.
Вечереющее солнце золотило рельсы. Желтые убранные поля были безмолвны и пустынны. Сентябрь уже овеял их своим дыханием, только поздние травы по откосам еще хранили запыленную зелень, дыша запахом увядания.
Владислав Казимирович молчал, предаваясь приятному ощущению покоя. Иногда мысли его уносились к Аннушке. Он уже не раз подумывал о том, как бы прекратить эти компрометирующие его служебное и начальничье достоинство поездки. Но его по-прежнему влекло к жене Друзилина: малограмотная мужичка подчиняла силой своего чувства.
Подъехали к мосту сто десятой версты. Антипа Григорьевич почтительно напомнил:
— Вы хотели осмотреть мост, Владислав Казимирович. Не угодно ли?
— Ах, да… мост… Нет, проедем до разъезда Чайкино, — рассеянно ответил Ясенский и задымил папиросой.
Антипа Григорьевич невозмутимо поджал сухие губы, важно выпростал бородку из воротника серого, заскорузлого, как лубок, плаща, сказал рабочим:
— Гоните поживее.
Рабочие сильнее нажали на рычаги. При всей своей нелюбви к мелкому холопскому услужению Антипа Григорьевич знал, когда следовало угодить начальству.
Дрезина остановилась у низкого серого здания разъезда. Тихий прозрачный вечер спускался на розовеющую степь. Горел на солнце крест дальней колокольни.
Разъезд Чайкино с убегающими в обе стороны пустынными путями, с узкой, усыпанной песком платформой, по которой расхаживали сонные куры, выглядел в этот час особенно скучным, оторванным от мира.
Ясенский приказал рабочему позвать Друзилина. Для видимости надо было осмотреть хотя бы крестовины стрелок. Константин Павлович явился, униженно кланяясь, С рябоватого лица его не сходило выражение робости и растерянности. На небрежные вопросы Ясенского он отвечал только смущенным «гм».
Владислав Казимирович остался недоволен состоянием стрелок: на некоторых переводах усовики были изношены, рамы неплотно прилегали к рельсам, на них лежал толстый слой мазута и пыли.
— Что же это вы, голубчик? — проговорил Ясенский, насмешливо оглядывая неуклюжую, затянутую в легкую суконную бекешу фигуру Друзилина. — Вы совсем не занимаетесь стрелочными переводами, сударь. Кто вам будет менять крестовины? Ваш сосед Полуянов?
— Гм… Гм… — растерянно забормотал Друзилин. — Я просил подослать новые крестовины… Не подсылают.
— Что значит — не подсылают? Что за нелепая болтовня? — Ясенский повысил голос. — Завтра же приступайте к смене переводов. Полуянов, передайте ему две новые крестовины. — Ясенский вытер носовым платком выпачканные руки. — Я удивляюсь… Чем вы заняты, господин Друзилин? Околоток у вас в безобразном состоянии. Стрелки чуть ли не в навозе. Что у вас делают артельные старосты?
— Подбивают толчки, — ответил сгоравший от унижения и стыда Константин Павлович.
— Что вы все — толчки да толчки. Вы должны заниматься не только толчками! — гремел Ясенский. Его бархатистый, мягкий голос далеко разносился в вечерней тишине, — он был слышен на самом разъезде. Там на перроне уже собрались начальник разъезда, дежурный и телеграфист.
— Братцы, уже намыливает башку нашему Друзилину Ясенский, — хихикал, потирая руки, телеграфист. — А потом к бабе его завалится на всю ночь… Эх, тяжела мастерова доля…
— Вообще мне придется, очевидно, всерьез о вас подумать, уважаемый Константин Павлович, — многозначительно закончил Ясенский. — Дальше так работать нельзя. Даю вам неделю, чтобы привести околоток в надлежащий вид. Иначе прошу извинить… О последствиях задумайтесь сами.
Читать дальше