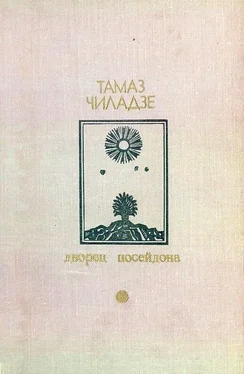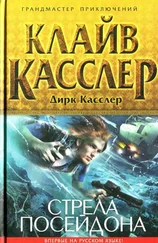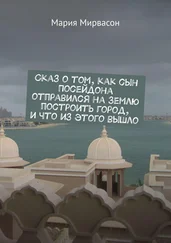Узнав, что Вахтанга не взяли, он сначала обрадовался. «Конечно, они не могли поступить иначе», — рассуждал он про себя, и эта мысль как бы делала его радость законной. Но было еще нечто, омрачавшее эту радость: значит, правда, сын такой слабенький и больной, что его не берут. И, думая об этом, Иона уже не знал, радоваться ему или печалиться.
Молчание становилось невыносимым. Как будто на обеденном столе лежал покойник.
— Вахтанг, сыночек, — Ионе показалось, что не он, а кто-то другой произнес эти слова. Сам он говорить не собирался: что он мог сказать сыну? Вахтанг поднял на него полные слез глаза. — Сыночек, ведь не могут же ВСЕ пойти на фронт. Люди нужны и в тылу…
Он понимал, что говорит совсем не те слова, которых ждет от него Вахтанг. Вахтанг и сам знал, что на войну идут не все, вот, пожалуйста, Иона, он ведь остается в тылу.
«Но как можно нас сравнивать! — с отчаянием подумал Иона. — Ведь он страдает оттого, что и здесь оказался в стороне, всех взяли, а его нет».
Жалость к сыну колючим клубком разрывала горло. Сейчас он думал о Вахтанге, как о жертве величайшей несправедливости. И самое страшное — винить некого, кроме самого себя: сам он жалкий неудачник и только он виноват в том, что сын остается дома, когда товарищи всем классом идут на фронт.
Он понимал, что сейчас оборвется последняя ниточка, связывающая их, и тогда все затопит волна ненависти и презрения.
— Помоги мне! — негромко проговорил Вахтанг.
— Как?! — простонал Иона, а сам мысленно уже валился в ноги начальству, цеплялся за халаты врачей, умолял: возьмите, возьмите, возьмите на фронт моего сына. Ничего, ничего, пусть одни удивляются, другие смеются, только бы… только бы не плакал Вахтанг, только бы не чувствовал себя одиноким! Пока он лихорадочно перебирал в памяти нужные знакомства, губы его произносили другое:
— Чем я могу тебе помочь?
— Можешь, — твердо сказал сын, взяв у него из рук стакан, и прижал его к груди как талисман, как сокровище, с которым только смерть могла разлучить его. И от этого случайного жеста сердце у Ионы зашлось от боли и сострадания.
Иона кинулся к Силовану. Актер все-таки, влиятельный человек.
— Как я могу заставить взять его, если не полагается? — удивился Силован.
— Пусть возьмут хоть куда-нибудь, у него почерк хороший и по русскому языку пятерка, он в штабе сможет работать, — уговаривал Иона.
— Но почему бы ему в тылу не заняться делом? Здесь тоже нужны люди.
— И я ему говорю, но он не слушает. Я, говорит, потеряю уважение к себе.
Вахтанг этих слов не произносил, но Ионе казалось, что он именно так думал.
Признаться, Иона, я немного удивлен, что ты так этого добиваешься…
— Эх, — махнул Иона рукой.
Силован повел его к известному в городе врачу, родственнику военного комиссара. Врач жил в уютном двухэтажном домике, утопающем в зелени и цветах. На крыльце сидела собачонка с высунутым языком, похожим на сигнатурку, приклеенную к аптечной склянке. Доктор с супругой состарились без детей. Должно быть, в этом и крылась причина их трогательной и редкостной привязанности друг к другу. Они жили в достатке и покое и пользовались всеми благами, не порицавшимися, разумеется, общественным мнением.
Доктор был высокий сутулый человек с брюшком. Старательно изуродованное интеллигентским образом жизни его обмякшее тело поддерживали тонкие подагрические ноги. Лицом он походил на мудрую и грустную птицу. Большой нос с горбинкой придавал ему вид горделивый и надменный. Впрочем, впечатлению этому противоречили младенчески ясные глаза, полные любопытства и неукротимой жажды жизни. Морщинистый и выпуклый, как глобус, лоб был окружен легкими сединами, напоминавшими поникший ореол святых мучеников или пророков, если, разумеется, можно себе представить поникший, смятый ореол.
— Брат мой любил египетские папиросы, — мечтательно говорил доктор. — Папиросы продавались в блестящих металлических коробочках. Он курил, а я собирал коробочки.
Доктор был братом поэта, скончавшегося очень молодым.
Доктор рассказывал, что пишет мемуары и что большая часть этих мемуаров будет посвящена покойному брату. Никого это не удивляло, несмотря на то Что он прожил в три раза дольше своего брата и никто не знал, сколько еще проживет. (Никто бы не возражал, чтобы он дожил до ста лет, потому что он был совершенно безвредным существом.) И тем не менее все были уверены, что собственное жизнеописание займет у доктора не больше десяти страниц. Он был из той породы людей, которых благодаря железному здоровью и абсолютной незначительности обходят стороной все житейские невзгоды. Ни разу не решившись погрузить хоть копчик пальца в ледяной поток событий, они от жизни даже насморка получить не могут и, естественно, доживают до глубокой старости.
Читать дальше