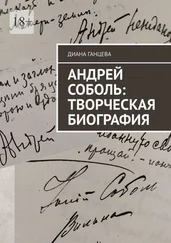— А ну-ка, скажи этому желтому лорду, пусть плюнет на свою страну и останется работать у нас. Положим ему оклад по семнадцатому разряду, женим его на русской.
— Уес…
— Что, что он говорит? Не хочет? Уже женат? Скажи ему, что у нас это просто: разведем в пять минут.
И московский деятель хохочет, хохочет весело. Так хохотал на русской границе белобрысый паренек-красноармеец, завидев желтое обличье.
Англичанин прощается с хозяевами: крепкое пожатье, короткое, но дружеское, — с большевиками можно работать; у себя дома, в Англии, он расскажет всем, что Россия изумительная страна и что…
— Да-да. В России удивительно хорошо смеются. Я об этом обязательно напишу. С людьми, которые так просто и жизнерадостно смеются, работать можно и нужно. И развестись у вас можно в пять минут? У меня в Лондоне много приятелей, неудачников в семейной жизни. Можно прислать их сюда? — И англичанин тоже смеется, но смех его холоден и сух, и от этого смеха ни весело, ни тепло, — и уже торопливо роется московский деятель в своих бумагах на столе.
Англичанин идет вниз, — и шагают по Москве желтые ботинки, прекрасные английские ботинки.
Шагает паспорт.
Только одно небо настоящее — московское.
— Москва… Москва моя…
Одна Москва, нет другой.
И один паспорт, только один: от него не избавиться, от него не уйти, он давит тракторами, он поражает великолепно возделанными полями, он множит нити, и каждая нить вяжет Лондон с Парижем, Париж с Варшавой. От паспорта, как и от бумажника, бегут по Москве лучики, лучики прорезали человеческие души, — есть теперь в Москве немало душ, чьи вожделенья прикованы к паспорту англичанина в желтых гетрах, — и только Тверской бульвар знает, как одна встреча за другой проходит под его молодой, весенней зеленью, и только Тверской бульвар знает, как продается человеческая душа, как она торгуется — не хуже и не лучше вон тех тверских женщин, что тело свое выносят на бульварный ночной рынок.
Шагают по Москве желтые ботинки, прекрасные английские ботинки.
И один комсомолец говорит другому, волнуясь, торопясь:
— Погляди, погляди!.. Вон тот!.. Из Коминтерна. Я его по карточке в Роста узнал.
И комсомольцы, спеша, петли описывают, чтобы еще раз и еще раз взглянуть на того, кто в конце концов свалит Керзона и Ллойд-Джорджа.
Шагают ботинки, шагает паспорт.
— Москва моя, Москва моя….
А если сразу рвануться и все нити порвать? С кем зашагают желтые ботинки, к кому прильнут твердокаменные доллары, с кем завтра утром в десять часов, на углу Кузнецкого и Петровки обменяется взглядом, быстрым и точным, молодой человек, весь собранный, весь четкий, в безупречно сшитой шинели кавалерийского покроя (до пят), с четырьмя ромбами на погоне рукава, — одним взглядом, чтоб потом, на Малом Козицком, в прокопченной примусным дымом комнатушке машинистки из Губторга, из кармана шинели вытащить связку бумаг, свернутых в трубку.
И опять до поздней ночи просидел иностранный путешественник на бульваре. И было ему холодно в весенней сырости, и чуть-чуть дрожал он, — он, который в мазурских болотах смеялся над гнилой осенью и над осенними болотными туманами.
А паспорт лежал в своем углу: он помнил лондонские туманы, и московская весенняя теплая сырость не отражалась на нем.
Карман, в котором…
Бывают карманы среднего размера, бывают карманы большие, предназначенные для путешествий, и туда влезают и красный томик Бедекера, и морской бинокль, и термос. Но где видано, чтоб в одном кармане, хотя бы даже длинной до пят кавалерийской шинели, могли уместиться дивизии, корпуса, артиллерийские склады, могла уместиться Россия?
— Да-да, вся Россия. — Серые глаза тускнеют и стынут.
Вся Россия. О, как протянулась она от моря до моря! Шесть, шесть лет строилась она, шесть лет исходила кровью, слезами, хоронила своих и чужих, плакала женскими, детскими, стариковскими слезами, тряслась по ухабам, неслась по сугробам, вязла в болотах, терзалась тифом, холерой, голодала, мерзла, коростой обрастала, вшам тело свое отдавала, — и мчались киргизские, бурятские лошаденки, пыхтели грузовики, тарахтели тачанки, вскидывали винтовки латыши, костромские мужички, замкнутые финны, скуластые китайцы, земля трещала по швам, пылали в зареве города, матери искали детей, отец на сына шел, сын отца убивал, дети по проселочным дорогам трупиками громоздились, — и полз кусок земли к куску земли, чтоб связаться в одно, чтоб обернуться одной землей: встать, востать одной землей, в одном устремлении.
Читать дальше