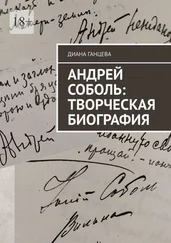И одну из Марьетт, даже чулки с нее стянув (из-за чего Марьетта в раж пришла и гневно сказала, что русские хамы не считаются с женской стыдливостью, но тут же отошла, получив золотую компенсацию), обернули до живота красной портьерой, живот покрыли белой скатертью, на лицо накинули синий шарф другой Марьетты, — и водрузив живой национальный флаг, стали истово прикладываться к нему. И воя сбежал русский флаг.
Серые глаза не потупились, серые глаза продолжали холодно и мертво взирать, как взирали потом на рассвет парижский, на собутыльников, которых ночные ажаны в пелеринках волокли по принадлежности, и на чудесный предрассветный сон по-ночному умиротворенного Парижа.
И эти же глаза не дрогнули, когда позвали их к генералу, и когда сказал генерал, что родина — страдающая, измученная, истерзанная — зовет его на подвиг ратный.
И добавил генерал, ковыряя в зубах зубочисткой:
— Милый мой друг, если бы не мои годы, да мое лицо, которое знакомо каждому москвичу, я бы с восторгом поехал с вами.
И попросил генерал передать привет Москве, за него помолиться у Иверской, и за него же где-нибудь втихомолку, если это только не отразится на великом деле, придушить одного-другого, хотя бы из маленьких, комиссара, ибо до больших-то не добраться: крепко оберегают их латыши да китайцы.
И глаза серые пообещали и помолиться, и придушить, и узнать, как обстоит дело с генеральским лесом в Смоленской губернии.
На русской границе серые глаза остановились на первом красноармейце.
Красноармеец, тощий паренек, курносый, с прядкой белобрысой из-под козырька суконного шлема, стоял враскоряку, штаны на нем висели, как на огородном пугале, с одной ноги сползала грязно-зеленая обмотка, а глаза были веселые, с легкой плутцой; на знатного иностранца, на весь желтый облик его поглядели с усмешечкой, и не удержался курносый — не то фыркнул, не то поперхнулся, прядка белобрысая подпрыгнула, нос еще выше задрался, шлем со смеху на затылок убрался.
Хорошо смеялся паренек: так смеются в деревнях, выезжая на ночное, оставляя позади себя все деревенские труды и заботы, предчувствуя ночь легкую, теплую, с огоньками костра, с россказнями длинными, байками всякими и песнями под сурдинку.
И в первый раз первое живое колебание прошло по серым глазам, и в первый раз сомкнулись глаза, точно от боли, чтоб потом опять и опять, не отрываясь, глядеть, как тянутся русские чахлые поля, как встают городишки, как разворачиваются извечно понурые проселочные дорожки, как тянется и ширится эресефесеровский железный большак, подводя к Москве путников усталых.
Поздно ночью желтые ботинки (прекрасные английские ботинки) и желтые гетры вернулись в свой номер гостиницы, и старорежимный по виду швейцар (в кармане профкнижка, а насчет чаевых по настроению), хоть заспан был, а поклонился гостю-англичанину профинтерному, а может быть, и коминтерному, — надо поласковее с гостями, пусть видят, что и мы уважать гостей умеем, — и спокойной ночи пожелал, хотя тот по-русскому ни слова, все одно только: рюс, очинь карошо.
И вот ночью, когда Москва спит, когда никнут к земле домишки окраин и даже дремлет на Страстной Александр Сергеевич, чуть ниже свесив руку со шляпой, летят в сторону ботинки, летят гетры, летят перчатки, — и все желтое отшвырнуто, и в большой темной комнате бьется быстро-быстро, трепетно и жарко такое маленькое, такое крохотное человеческое сердце:
— Москва… Москва моя…
Будто кто-то под полом молоточком выстукивает.
И отвечает сердце:
— Моя… Моя… Семь лет.
Отвернута плотная бархатная гардина — рванула ее неспокойная рука, как бы снимая скверную, уже засохшую коросту с живого поздоровевшего тела.
И серые глаза не отрываются от окна, а за окном мокрый асфальт Тверской, подмигивание ночного фонаря и грустное предрассветное московское небо.
О, не спутать его с константинопольским небом, не заменить его южным небом Салоник.
Одно небо — и нет другого.
Одна Москва — и нет другой.
И — один паспорт.
Его бумажник.
Тоже желтый, с огромным количеством отделений и подотделений, он занимал отведенное ему место в кармане коричневого костюма. Он не спорил из-за места с записной книжкой, он не уплотнялся ради паспорта, ибо паспорт тоже имел свой определенный участок; и книжка записная, и паспорт, и бумажник жили дружно. Стараясь друг другу не мешать, они все вместе почтительно подчинялись суровому хозяину.
Читать дальше