Помог ему друг детства Васька Ткачев, с которым он учился еще до войны.
Васька жил здесь же, на проспекте Огородникова, через дом, очкарик Васька, по школьной кличке Профессор Ка Ща, что означало — Кислых Щей, хотя такие клички давались не из пренебрежения, а от зависти. Васька всегда учился отлично. Небольшого роста, остроносенький, с глубокими оспинами на лице (в раннем детстве переболел оспой, когда семья жила в Средней Азии) — ну, конечно же, типичный Ка Ща! Он уже учился на первом курсе Института иностранных языков, но математику, физику и химию знал и помнил так, что Храмцов только диву давался.
— На кой тебе ляд все это помнить? Ты же сейчас парле ву франсе.
Васька улыбался и отвечал, поправляя указательным пальцем очки на переносице:
— Ненужных наук нет. А знаешь, кстати, что говорил Гете?
Храмцов не знал, что говорил Гете.
— «Наука — вот истинное преимущество человека». Давай по этому поводу следующую задачку.
Васька приходил к нему каждый вечер как на службу. А когда Храмцов сдавал на аттестат, ездил с ним в школу и торчал в коридоре, бледный, нахохлившийся, словно бы вновь переживающий свою, а не чужую пору выпускных экзаменов.
Вот что мог бы рассказать Любе Храмцов. Потом — мореходное, и уже полтора года он ходит штурманом на «Донце». Судно, конечно, старая калоша, но он успел побывать черт знает где. Европейские порты — это само собой. Бывал и в Южной Америке, и в Китае, и в Индии, и в Индонезии, и штормяги случались такие, что казалось — прости-прощай, да ничего, выдюжил, зато теперь им с матерью жить легче, совсем легко жить им сейчас. Храмцов засмеялся. Придет мать — покажет, чего я натаскал ей из загранок!
Он снова спохватился, вот сидит, рассказывает, даже прихвастнул самую малость, а Люба ведь так почти и не ответила ни на один из его вопросов.
— Ну, а ты-то, ты как?
Она отвела глаза.
— Не очень.
— Что не очень?
— Ну, вот с муженьком развелась, например, — усмехнулась Люба. — Восемь лет выбросила.
Храмцов был настойчив:
— Почему? Почему развелась?
Люба не хотела отвечать подробно. Почему люди разводятся? Как говорится, не сошлись характерами…
А Храмцова охватило радостное предчувствие чего-то такого, что должно случиться с ним — не сейчас, даже, может быть, не завтра и не послезавтра, но обязательно случится, — и в том, что произойдет, будет присутствовать она, Люба. Теперь она пришла сама. Взрослая. И он тоже совсем не тот долговязый переросток.
— Все-таки давай пить чай, — сказал он и вышел на кухню.
У него есть неделя, целая неделя. Через неделю «Донец» идет в рейс — сначала Киль, потом Лондон и обратно, в Ленинград. Неделя!
— Ты где остановилась?
— Сняла комнату.
— У кого?
— Ты все равно не знаешь. У одной женщины. На Васильевском.
— Вот дуреха-то! У нас, что ли, места мало? Перебирайся, чего тебе…
— Нет, Володька, чужой добротой надо пользоваться в меру… Иначе — нахальство. А дом-то мой отстроили…
— Знаю.
— Откуда?
Он понял, что попался, и буркнул в ответ:
— Знаю, видел, — хотя не видел тот дом отстроенным.
Однажды он нарочно поехал на угол Разъезжей и Лиговки. Развалины стояли, отгороженные от улицы деревянным забором. Бомба обрушила часть дома, с улицы были видны комнаты. Храмцов глядел и пытался догадаться, в какой из них жила Люба… Потом у него защемило сердце, и он подумал: на кой черт поехал сюда? Забыть — и все. Что ж, с годами Люба и впрямь забылась. Но зачем рассказывать ей, что он нарочно ездил поглядеть на ее дом?
— А что ты дальше думаешь делать? Останешься или.
Люба ответила не сразу. Она разглядывала чашку, которую поставил перед ней Храмцов, — тонкую, с тонким рисунком: ветка сосны и гора в отдалении.
— Японская?
— Да. Так что же дальше?
— Не знаю. Наверно, уеду.
— Куда?
— Страна большая, а у меня профессия хорошая — медсестра. Люди везде болеют, Володька. Устроюсь.
— Так. А Ленинград чем плох?
— Хорош! Я целый день ходила, ходила и не могла наглядеться… Мне здесь будет трудно.
— Брось, — тихо сказал Храмцов. — Человек должен жить дома. Знаешь, я там, в загранке, насмотрелся на наших… Ну, бывших наших, которые были в плену и побоялись вернуться. Чуть не ощупывают тебя и ревут белугами — домой бы, домой… Да я сам знаю: проболтаешься полтора месяца черт знает где, подходишь к Ленинграду — сначала порт, краны, а потом крыши… Так и глядишь с мостика: где твоя крыша?
— Ностальгия, — кивнула Люба. — Неопасная болезнь.
Читать дальше
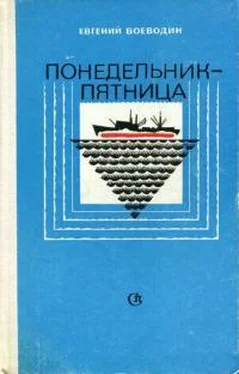


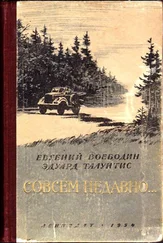




![Евгений Воеводин - Твердый сплав [Повесть]](/books/409642/evgenij-voevodin-tverdyj-splav-povest-thumb.webp)


