Григорий Поликарпович проводил желающих покурить на веранду и вернулся к гостям. Вскоре из комнаты полилась песня, поначалу нестройно, вразноголосицу. Но вот Григорий Поликарпович завел свою, украинскую, о казаке, ушедшем на войну, запел приятным сильным тенором, и уже после первого куплета подчинил себе женские голоса, но не подавляя их, а как бы только усиливая звучание.
Кобзев кашлянул и улыбнулся, щуря узкие глаза.
— Превосходно.
Суров молчал, слушал. Один за другим умолкали женские голоса, остался единственный, грудной, с надрывинкой, придававшей ему особую задушевность. До боли знакомый женский голос вторил Кондратюку, то возвышаясь над ним, то замирая. Суров слушал и не верил. Не мог поверить, что это его жена, его Вера обладает таким колдовским дарованием, от которого даже пробирает озноб. Вера немного пела, он это знал: совсем неплохо исполняла родные украинские песни. Но чтобы за душу схватило, как вот сейчас, чтобы защемило сердце — такого не случалось еще ни разу. Вот уж никогда не думал, что песня способна так захватить, увести за собой.
Не один он поддался ее власти: вытянув шею, держа да отлете дымящуюся между пальцев сигарету, внимал мелодии Тимофеев; Кобзев щурил улыбчивые глаза, а лицо было строгим, сосредоточенным.
Песня кончилась. В доме наступила тишина.
— Братцы!.. — вдруг ошалело заметался Андрей Вадимович. — Да это же… это… Да вы, братцы, понимаете, это же талантище!.. Ни шиша вы не понимаете. — И, неожиданно сорвавшись с места, как угорелый бросился в соседнюю комнату.
— М-да, — задумчиво произнес Тимофеев. — Вот уж поистине талант! Не ожидал.
Все вместе возвратились в шумную комнату, где Ефросинья Алексеевна тщетно пыталась вернуть гостей к столу, к сладкому, а они, взволнованные, обступили Веру, упрашивая спеть еще.
Там же, в свободном уголке возле окна, напротив Веры, раскрасневшейся от успеха и повышенного внимания, жестикулировал Кобзев. Он размахивал длинными руками и вертел головой, а Вера категорически отнекивалась.
— Что вы, ни в коем случае, — услышал Суров возглас жены. — Нет, нет.
— Вера Константиновна! — кричал Кобзев. — Вы говорите, не отдавая себе отчета. Да, именно так. Вы не вправе распоряжаться собой, да! Такой голос — народное достояние. Именно!
Суров не слышал, что ответила Вера. Кокетливо тряхнув упавшей на лоб завитушкой, к нему бросилась Ефросинья Алексеевна:
— Помогите, Юрий Васильевич. Ну дети, чисто дети! Не слушаются!
Суров направился к кругу, к жене с таким ощущением, будто лишь несколькими минутами раньше открыл ее для себя, открыл другую, незнакомую Веру, какой не знал до сих пор, как не знают человека, с которым много лет подряд встречаются и вдруг при случайном стечении обстоятельств обнаруживают, что годы незнания — величайшая из потерь. С этим не покидавшим его ощущением взял Веру за руку и повел к столу, испытывая чувство обретенной радости, полной глубокого смысла, точно зная, что таким оно надолго останется в нем, не поддаваясь влиянию ни настроений, ни времени. Понимала ли это Вера? Наверное, понимала, уверял он себя, заботливо усаживая ее за стол и внутренне радуясь появившемуся в ее глазах изумлению. Суров как бы в первый раз за тридцать пять прожитых лет увидел себя с изнанки, и она, эта изнанка, не приглянулась ему. Взору представился человек, подчинивший себя целиком и полностью службе — единственно ей, требуя того же от всех, кто его окружает, в том числе и от Веры, забывая при этом, что у нее имеются свои идеалы, свои устремления.
Гости, пошумев, вернулись на свои места за столом. Один лишь Кобзев не последовал их примеру. Поскучневший, непонятно на кого и за что обидевшийся, он устроился с краю стола, ближе к выходу.
За столом разговор не утихал — Верин успех продолжал быть в центре внимания, а сама Вера, раскрасневшаяся от смущения, но явно польщенная всеобщим восторгом, уставилась куда-то в одну точку.
— Варвары! — неожиданно прокричал Кобзев. Его не услышали, и он, уже тише повторив это слово, окинул сидящих осуждающим взглядом. С оттопыренной нижней губой, тусклый, он походил на обиженного, всеми забытого ребенка, которого привели в компанию взрослых и забыли.
Подали чай и кофе. Ефросинья Алексеевна потчевала гостей тортом и домашними румяными пирогами со сладкой начинкой. Григорий Поликарпович, ко всеобщему удовольствию и неподдельному удивлению, притащил и водрузил на середину стола горящий начищенной медью пузатый самовар и под одобрительные выкрики принялся наливать чай в большие «домашние» чашки, собственноручно вручая их — из рук в руки — каждому гостю. Было шумно и весело.
Читать дальше
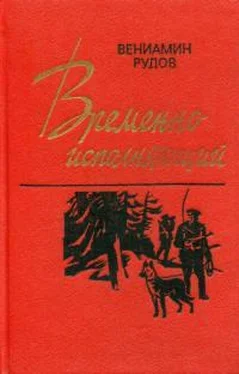







![Александр Любимов - Рисунок, исполняющий желания [Как заставить подсознание работать на вас] [litres]](/books/397565/aleksandr-lyubimov-risunok-ispolnyayuchij-zhelaniya-ka-thumb.webp)

