— Устал.
— Конечно, устал. Хочешь кофейку? Пойдем к нам.
Отказаться было неудобно. И он пошел, ожидая продолжения этого мучительного разговора. Мелешко остался в канцелярии, сказав, что у него неотложные дела, тоже, видно, боялся дальнейших откровений жены.
Но оба они ошиблись: Екатерина Егоровна больше ли слова не сказала о службе мужа.
В доме все было точно так же, как и десять лет назад. Только прибавилось фотографий на стенах — невесток и внуков.
В какой-то момент время сместилось для Сурова ровно на десять с лишним, почти одиннадцать лет: он с Верой и двухгодовалым сыном был приглашен к Мелешко на ужин, и Екатерина Егоровна выставила на стол приобретенный в этот день в Военторге фарфоровый чайный сервиз, очень красивый — синий с позолотой, — а ребенок, предоставленный буквально на две-три минуты самому себе, потянул скатерть, и от сервиза осталась целой одна-единственная чашка.
— Пей, Юра, — Екатерина Егоровна поставила перед Суровым ту самую уцелевшую чашку и приятно улыбнулась. — Помнишь?
Он тоже в ответ улыбнулся.
— Еще бы!
Екатерина Егоровна села напротив и стала плести из бахромы скатерти косички. Потом безо всякой нужды протерла чистую пепельницу.
Суров решил: сейчас заведет разговор о Вере — Екатерина Егоровна издавна не любила ее, когда еще жили на заставе под одной крышей. Разговор о Вере был бы ему сейчас неприятен, и он решил, что не станет поддерживать его.
— Вера как, преуспевает? — тихо спросила она, с трудом произнеся последнее слово.
— В каком смысле?
Екатерина Егоровна быстро нашлась:
— В искусстве, конечно. До сих пор помню ее «Рябиновый пир». Прекрасная вещь. Хотелось бы посмотреть что-нибудь новое.
— Приезжайте. Вере есть что показать. — Суров понял, что таким обходным маневром Екатерина Егоровна хотела узнать только одно: живут ли они вместе.
— Рада за нее. И за тебя. Все-таки нашли общий язык? — Суров в ответ только плечами пожал. — Думаешь небось, вот дотошная баба, до всего-то ей дело, — скупо улыбнувшись, проговорила Екатерина Егоровна. — В личную жизнь нос сунула. А я и правду рада, что жизнь у вас сложилась. Тогда, до твоего отъезда на Дальний Восток, все боялась — женишься на Люде Шиманской.
Он покраснел.
— Да что вы, Катя! Что придумали!
— Любила она тебя. И до сих пор любит. Позови, шевельни только пальцем — побежит за тобой на край света. Хоть и замужем. Сама мне говорила. Но я-то в самом деле рада, что у вас с Верой все образовалось. У тебя высокий пост, будто на возвышенности стоишь, у всех на виду, и ты не имеешь права дать хоть какой-то повод для ненужных разговоров. Надо держаться. Даже если для этого потребуется сжать зубы. На границе по-другому просто невозможно.
— С Верой у меня все хорошо, — сказал Суров, скорее убеждая в том себя, чем Екатерину Егоровну.
— Что ж, я искренне рада за вас обоих, Юрочка. Нет ничего хуже семейных разногласий. Недавно по просьбе Тимофеева я ездила на третью, жену начальника урезонивать. Дурью мучается молодичка. От безделья изводит и себя и его — ревнует безо всякого повода. Детей нет — вот и мается. Говорю ей: «Таких мужей, как твой, матери родят раз в сто лет. А ты его поедом ешь. Иди работать, иначе добром это не кончится». И что ты думаешь? «Понимаю, — говорит, — а поделать с собой ничего не могу». Работать ей в самом деле негде. Ближайший поселок, где есть работа — и та не по специальности, — за четырнадцать километров. Пешком не находишься, а на машину лимит. Так что подумай.
В пять утра Мелешко разбудил Сурова — условились ехать на Круглое. Юрий Васильевич, как случалось по команде «В ружье!», быстро оделся, плеснул в лицо холодной воды, снял с вешалки шинель, взял из-под подушки ремень с пистолетом.
— Перед дорогой чаю выпьем? — Майор пригласил Сурова в канцелярию.
На приставном столике стояли чашки и дымящийся парком чайник. Пахло ароматным, крепко заваренным чаем. От настольной лампы под зеленым стеклянным абажуром мягко лился свет.
Суров внимательно оглядел комнату и вдруг представил прежнюю канцелярию с занавесками из дешевого ситчика, солдатской узенькой койкой под вытертым одеялом, на которую, бывало, приляжешь на полчасика в промежутке между выпуском пограничных нарядов и провалишься в бездну. Как наяву предстало тогдашнее монашеское убранство: три однотумбовых стола, поставленных впритык один к одному, шкаф, доверху забитый уставами, разной литературой, акварельными красками и красной материей для лозунгов — чего только не было в том невзрачном с виду шкафу! — вешалка, на которой постоянно висели плащи и куртки и обязательно чья-нибудь давно не надеванная шинель с потускневшими желтоватыми пуговицами. Все было пропитано запахом табака, неистребимо, до горечи. Работалось дружно и хорошо, тон задавал неугомонный Мелешко, которому, казалось, не будет износа.
Читать дальше
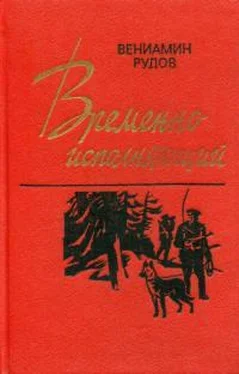







![Александр Любимов - Рисунок, исполняющий желания [Как заставить подсознание работать на вас] [litres]](/books/397565/aleksandr-lyubimov-risunok-ispolnyayuchij-zhelaniya-ka-thumb.webp)

