*
При восприятии окружающего мира, при любовании красотами природы надо знать закон кадра.
Вы едете в Армении по Араратской долине. Белоснежный (розоватый) шатер знаменитой горы висит в синем небе справа от вашей дороги. Вы останавливаетесь и выходите из машины около каменной арки, сооруженной вблизи дороги. Вы взглядываете и замираете в восхищении. Теперь Арарат и часть неба как бы вставлены в рамку, ограничены специально для этого построенной аркой и кажутся еще прекраснее. Из необъятного внешнего мира вычленен кадр. Кадр — это ключик к любованию внешним миром.
Немыслимо на каждом шагу строить арки или носить с собой какой-нибудь прибор, который позволял бы вам видимое пространство (лес, реку, равнину) организовывать в кадр, но умозрительно вы всегда сможете выделить для себя любой кадр из внешнего мира.
*
По закону кадра строится японская поэзия трехстишия и пятистишия. Конечно, остановленным бывает не только зрительное мгновение, но и событийная его сторона, но все равно это всегда остановленное мгновение, кадр.
На желтых камышах
Отлив оставил
Сверкающий ледок.
Я в тени прилег.
За меня толчет мой рис
Горный ручеек.
Дождливый осенний вечер.
К соседу, не ко мне
Зонтик прошелестел.
Когда начитаешься японских трехстиший, то даже японские пятистишия кажутся уже многословными, не говоря о наших стихах длиной с версту. Японцы смотрят и любуются, а не рассуждают. Японец написал бы:
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я.
И на этом остановился бы. Он избежал бы дальнейших рассуждений поэта европейского:
Где цвел, когда, какой весною,
И долго ль цвел и сорван кем,
Своей, чужою ли рукою
И положен сюда зачем?
На память тайного свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в глуши лесной?
И жив ли тот и та жива ли
И ныне где их уголок,
Или оне уже увяли,
Как сей неведомый цветок.
Может быть, японец обо всем этом подумал бы, глядя на засохший цветок, но подумал бы про себя, предоставив то же самое право и читателю.
*
Раньше по деревням ходили нищие, собиравшие милостыню, особенно в престольные праздники. От дома к дому, и в каждом доме где кусок хлеба, где кусок пирога, где картошину. В округе было двое-трое нищих, которых все уже знали. Так, например, в наших местах Мишка Зельниковский (то есть, значит, из деревни Зельники), Костя Рыбин, Наташа Бурдачевская (из деревни Бурдачево) и был еще Егорка Неражский (из деревни Нераж).
Этот Егорка обладал дефектом речи. Вместо «куски» он говорил «кутьки», а вместо «берем» — «бегем». Вот он придет хотя бы и в наш дом, истово и долго крестится на иконы, смело садится за стол. Его покормят и захотят дать ему с собой еще хлеба или пирога. Тут он начинал сердиться:
— Кутьки не бегем! — кричал он, сердясь на мою мать. — Кутьки не бегем!
То есть куски не берем.
Поесть поест, а кусков не берет. Граница его морали, которую он не переступал. Как-то само собой у меня и у некоторых моих друзей, которым я рассказал про Егорку, это взялось на вооружение. Ведь бывают в жизни случаи, когда то или иное выглядит как подачка. Тут самое время сказать словами Егорки Неражского:
— Кутьки не бегем!
Владимир Алексеевич Солоухин
КАМЕШКИ НА ЛАДОНИ
Редактор И. Соболев
Художник А. Гангалюка
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор Е. Михалева
Корректоры Г. Трибунская, В. Авдеева
Сдано в набор 16.12.81. Подписано в печать 31.05.82. Тираж 100 000 экз. Цена 65 коп. 271 страница.
Издательство «Молодая гвардия».
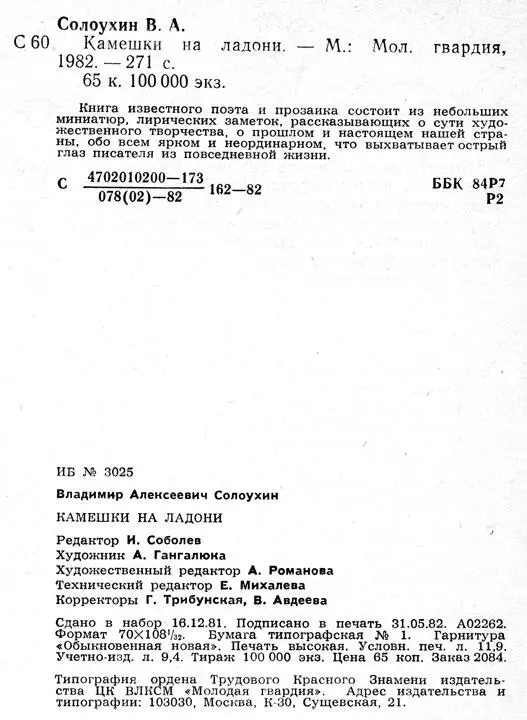
Я опускаю здесь оттенки произношения, не играющие существенной роли. По-польски звучит: яйко мегко, яйко твердо.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, т, 77, с. 390.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Владимир Солоухин Камешки на ладони [1982] обложка книги](/books/414984/vladimir-solouhin-kameshki-na-ladoni-1982-cover.webp)
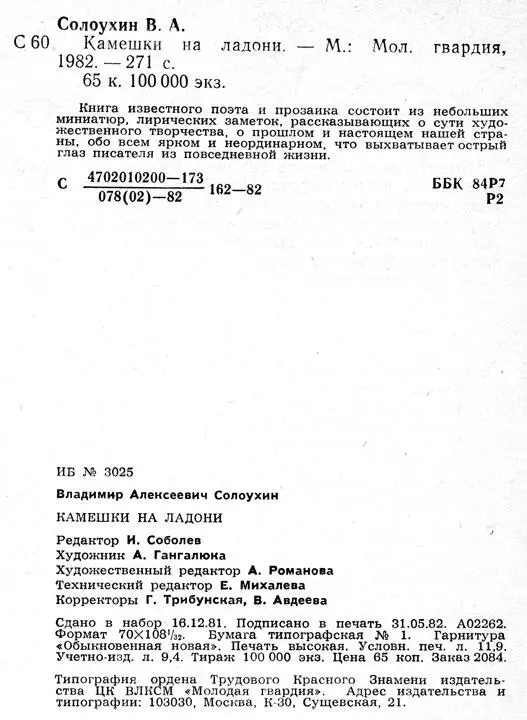


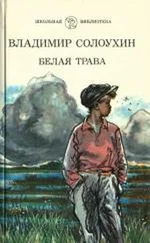
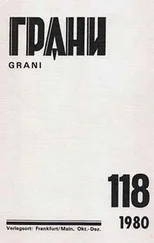
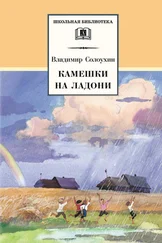
![Владимир Солоухин - Камешки на ладони [журнал «Наш современник», 1990, № 6]](/books/414983/vladimir-solouhin-kameshki-na-ladoni-zhurnal-nash-s-thumb.webp)