Ну хорошо. И вдруг в описании исторических событий, в ткани романа у Дюма прорывается фраза: «Таким образом, еще в 1541 году госпожа д’Эстамп предвосхитила методы критики XIX столетия». Значит, уж допекли критики Александра Дюма, если сквозь ткань исторического повествования прорвалась эта фраза. А он не знал еще современной нашей критики!
*
Бумага терпит только определенную степень искренности.
*
Она чудовищно талантлива. Однако, когда прочитываешь все ее стихи, ощущаешь себя в комнате (в зале), увешанной драгоценными произведениями искусства, со вкусом обставленной, одним словом, в прекрасной комнате, но… без окон.
*
Какая разница между нормальным жилым многоэтажным (четырех, шести, девяти) домом у нас и где-нибудь в Париже, в любом европейском городе?
У нас подъезд, лестница и лестничные площадки являются продолжением улицы, а у них — начало квартиры. Ковровые дорожки, цветы, покрытые лаком деревянные ступени, натертый паркет на площадках…
*
Конечно, и сама работа, сам процесс исписывания страниц (или исписывание красками полотна, или писание нот на бумаге), конечно, это тоже творческий процесс. Некоторые страницы будут написаны с б ольшим подъемом и блеском (вдохновением), некоторые с меньшим; конечно, подыскание рифм, соединение слов в стихотворные строки и строфы — все это творческий акт, вернее, его продолжение, завершение.
Но высшей точкой творческого акта, искрой, вспышкой горючего материала, блеском молнии, озарением, а короче говоря, собственно творческим актом является момент рождения замысла. Здесь в одно мгновение укладывается то, что потом растянется на часы, дни, месяцы, на целые, быть может, годы воплощения.
*
У самых хороших поэтов бывают осечки вкуса. Скажем, строка Пастернака о волнах: «Прибой как вафли их печет». Говорят, что поэт видел однажды, как пекут вафли на кондитерской фабрике, и говорят, что это очень похоже. Но едва ли из читающих стихи хоть один человек тоже побывал на кондитерской фабрике, поэтому эта строка мертва и досадна. Для проверки попробуйте представить себе обратное сравнение: кондитерский автомат выбрасывает, печет вафли как прибой волны. Это уже более допустимо, потому что прибой видели многие.
Но и вообще-то сравнить морские волны с вафлями… Осечка вкуса.
*
В шведском городе Гетеборге я был гостем профессора Гунара Якобссона. Мы ходили в ресторан обедать. Однажды я высказал робкое пожелание пойти в рыбный ресторан. Профессор сказал:
— Вчера был шторм. Рыбаки не ходили в море, так что сегодня не будет свежей рыбы.
— Но позавчерашняя, третьего дня…
— Что вы! Кто же ест рыбу третьего дня?
*
Почему старые названия улиц очень жизнестойки и звучат очень естественно, не натянуто? Кузнецкий мост. Никакого моста через Неглинку там давно нет, равно как и кузнецов. Но дело в том, что они были. Название не взято с потолка, произвольно, оно возникло в ответ на факт, на реальную действительность.
Теперь я читаю: «Бульвар Вешних вод». Почему? Какие вешние воды? Если просто вешние воды, то они текут везде, если повесть Тургенева, то бульвар этот (новый) никаким образом с Тургеневым не связан. Отсюда ощущение натянутости, вычурности, неестественности во многих новых названиях. Они придуманы, а не рождены фактом.
*
Раньше на фортепьяно играли при свечах. Свечи были дороги. Поэтому и говорили иногда: «Игра не стоит свеч». Это значило, что игра была плохая. Но будет ли комплиментом игре, если про нее сказать, что она стоит свеч?
*
Стихи создаются двояко. Либо из сознания поэта, как из компьютера, в который заложена программа, выскакивают целые строфы, и тогда они, эти строфы, монолитны, нерасчленимы, либо они появляются в полуготовом, обрывочном виде, и тогда их приходится доделывать на бумаге, досочинять.
Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит,
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
Или:
Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была.
Это идеальный случай, когда строфы возникают и выливаются на бумагу в готовом практически виде и целиком. Но очень часто при написании стихотворения последующая мысль, последующий образ формируется не в виде целой строфы, а в виде двух последних строк, то есть третьей и четвертой строки. Они главные, они ударные, завершающие строфу, и поэт знает, что были бы они, а уж две «верхние» строчки он к ним подберет. Поэтому очень и очень часто две нижние строки в строфе филигранны, блестящи, являются безупречной поэтической формулой, а две верхние пустоваты, иногда нарочиты, искусственны, а то и корявы. Они ведь то что называется проходные, они приделаны к строфе ради ее двух нижних главных строк. Иногда это более очевидно, иногда менее, но то, что такой закон, закон слабых верхних строк, в строфе существует, это факт. Берем даже Пушкина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Владимир Солоухин Камешки на ладони [1982] обложка книги](/books/414984/vladimir-solouhin-kameshki-na-ladoni-1982-cover.webp)


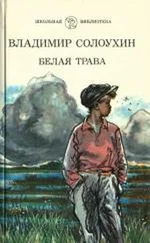
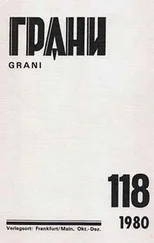
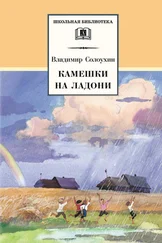
![Владимир Солоухин - Камешки на ладони [журнал «Наш современник», 1990, № 6]](/books/414983/vladimir-solouhin-kameshki-na-ladoni-zhurnal-nash-s-thumb.webp)