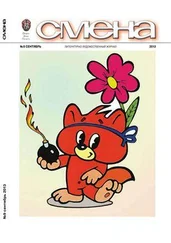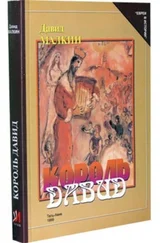Когда какой-либо ребенок в «доме» заболевал дифтеритом или скарлатиной, Лея и Цирель покидали свои дома, своих детей, не показывались у себя по целым суткам, бодрствовали ночами у изголовья больного, озабоченно бегали с пузырьками льда или льняными припарками и не покидали «дома», пока ребенок не был «спасен».
От всего этого, от суеты и беготни по «дому», они проникались еще большим восторгом и почтительной робостью перед великим отцом. Но все же в глубине души у них шевелилось и другое чувство. Порой в будний день забежит одна из них к другой поговорить втихомолку о брильянтовых сережках, о дорогом перстне или жемчужной подвеске, которые отец купил «ей».
— Говорят, жемчуг редкостный. Уйму денег стоит…
Они понижают голос, чтобы даже дети не подслушали их, и смотрят пытливо друг другу в глаза, как бы советуясь: не счесть ли это за обиду? В маленьких глазках Леи, отцовски умных и темных, вспыхивает тогда скорбный огонек, но быстро гаснет в ее неизменной застенчивости.
Этот стыдливый робкий огонек загорелся в ее глазах давно, очень давно, в былые годы, когда Михоел Левин впервые ввел новую хозяйку в «дом». О Лее, еще молодой девушке в ту пору, как-то забыли. Ее не научили не только письму — она не умеет свое имя подписать, — но даже и чтению молитв. Ее обрекли на вечный позор: по субботам в женской половине молельни ей, дочери Михоела Левина, приходится склоняться к плечу своей младшей сестры и с багровым от стыда лицом, виновато озираясь, вслушиваться в то, что сестра читает по молитвеннику.
В те же дни откуда-то издалека к хозяйке «дома» донеслась весть о дедушкином первенце: он-де обеднел, скитается на чужбине в великой скудости, едва не протягивает руку за подаянием.
Охваченная страхом, не воскресят ли эти вести в ней прежней греховной тоски, она спустя долгие годы вновь стала тяжелеть и одарять «дом» детьми.
Она родила еще двоих — Фолика и Блюму.
На этом ее материнство могло бы, в сущности, закончиться. Дедушкин первенец был уже в могиле и не вызывал больше властного желания отдать ему и себя, и свое состояние, и душу, а ведь душа должна явиться в мир иной незапятнанной. К тому же и богатство в эти годы уже не только не приумножалось, но даже, пожалуй, несколько пошло на убыль. Рождение детей не возбуждало больше в отце никакой радости.
Блюму, щуплую, на редкость злую, с отметинами на щеке и шее (рубцы от перенесенной в детстве операции), он открыто недолюбливал, не выносил ее резких криков, морщился:
— Да… видать, растет добро!
Удивлялся:
— Откуда такая у меня?
А с Фоликом, веселым, упитанным толстяком, ненасытным обжорой, — он сопит от удовольствия, когда дорвется до еды, судорожно глотает куски, даже не разжевывая их, — с Фоликом совсем беда. Когда ему пошел четвертый год, обнаружилось, что он заикается, словно полунемой, невнятно бормочет отрывки слов, — нужен целый синклит мудрецов, чтобы понять его речь. К тому же он досаждал всем в доме своими проказами: запрячет ключи так, что люди собьются с ног, пока их разыщут; схватит, когда никто не увидит, шаль или шелковый платок и сунет их в горящую печь. На шестом году, после двух лет пребывания в хедере, его стали возить по лекарям и знахарям:
— Вот мальчику уже скоро семь лет, а он даже азбуки не знает. Не назовет ни одной буквы в молитвеннике и произносить их не умеет.
Кто-то в конце концов надоумил:
— Поставьте ему пиявочек на затылок!
Отца дома не было, да он и не вмешивался в эти дела. Пиявки Фолику поставили раз, другой — немного помогло: он стал узнавать буквы в молитвеннике, стал говорить более внятно. Все же учителя жаловались:
— Уж очень туг по части грамоты. Нет, не отцовская голова у него!
Все это происходило в те годы, когда «дом» был полон забот о подросших детях, когда выдали замуж Шейндл, женили Иону и готовились к свадьбе Шолома.
Супруга Михоела не желала больше иметь детей. Ей не верилось, что она способна еще родить, но все же вновь понесла и сразу возненавидела свой пухнущий живот. Она ненавидела надвигавшуюся старость и сочла позором беременность на склоне лет. В этой беременности ей почудились возмездие и кара, — ведь все прежние дети были лишь средством избавиться от греховной тоски и неутоленных желаний. Где-то она слышала: всевышний карает ту часть тела грешника, которой он нарушил закон, ибо так указано в библии: «Ухо, которое было отверсто на горе Синай и слышало мое веление: „Да не продаст себя никто в рабство“, но не пожелало покориться божественному гласу, должно быть пригвождено».
Читать дальше