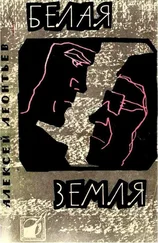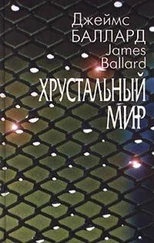Старики просыпаются рано, будят молодых. Спасибо старикам. Роса обжигает лицо, знобит грудь. А выпрямишься, поднимешь глаза — и видишь утренний свет.
Во все времена года в любом краю земли он льет в душу негромкую радость, которую хочется сберечь и продлить, как часы юности.
Он загорается робко, и в нем долго не гаснут звезды, россыпи Млечного Пути. Небо медленно зеленеет, как морская вода, прародитель и чрево всего сущего. И всё на земле зеленеет. Меркнет луна, кривое окошко в утренний свет. А он затопляет свечи звезд, смывает миражи туманностей, распахивает цветы, будит певчих птиц.
Дышит ветром утренний свет. Но небо не слепит, небо завораживает своим высоким сияньем, потому что задолго до того, как солнце коснется горизонта, ты чувствуешь: оно восходит, неизбежно, неодолимо, как коловращение миров, поднимая над землей наше знамя.
* * *
Поутру на лесной опушке после дождя вылепился след подкованного копыта. След свежий, точно отчеканенный. Шипы и дужка подковы под обрез вдавились во влажный зернистый грунт, и видны квадратные шляпки гвоздей-ухналей, которыми ее пришили к копыту. А из следа, из маленького выпуклого лобка земли, плотно сбитой, спрессованной клеймом копыта, торчала тоненькая былинка, живое нежное шильце — бледно-зеленый огонек.
Еще неясно было, из чего она росла, — может, из маковой росинки, может, из хлебного зерна, а может, из желудя. Так могли быть зачаты и травинка, и колос, и дуб. Рядом возвышался старый дремучий лес. А она глядела ему в лицо снизу вверх, из полукружья подкованного копыта, будто из материнской колыбели, невозмутимым младенческим взглядом.
И думалось: кто опрыскал ее «живой» и «мертвой» водой? Она была раздавлена насмерть. Она жила. Она дышала. Зеленый огонек горел!
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Небыл. Серебряная Гора или сто преступлений
Мать рассказывала Сереже: был у отца приятель по фамилии Небыл. Звали его Ян Янович. Деды его происходили из чехов, но родители обрусели и почитали родным языком русский.
Сережа смутно помнил — пришел к ним рослый дядька в сапогах. Лица его Сережа не видел: оно было заслонено могучей грудью, похожей на бочку. Дядька топал сапогами и гулко хохотал. А из его правого кулака тянулся табачный дым.
Ян Янович слыл весельчаком, балагуром. Он говорил:
— Вся наша жизнь, ей-богу, комедия, причем уморительная, если не считать времени сна. Во сне мы серьезны. Самое комичное, что мне снилось, представьте, вот что: сидит мужчина и жалуется другому: «Слушай, а ведь я люблю твою жену!» А тот его утешает… Но и это, кажется, было наяву.
Жил Ян одиноко.
Где-то в Чехословакии, в городе Киёв на притоке Моравы, у него были дальние родичи. Однако переписываться с ними ему не советовали. В начале тридцатых годов, когда мы покупали промтовары по карточкам, пришла Небылу из-за границы посылка, и в ней — отменные темно-желтые штиблеты фирмы «Батя» и свитер с вышитыми на груди скачущими оленями. Свитера Ян не носил, но показывал его и смеялся, подергивая себя за рыжеватый шелковистый ус:
— Жду, когда с него олени ускачут.
А в Киёв написал на модном тогда языке эсперанто.
Его мать и незамужняя сестра жили на Волге, под Куйбышевом, в маленьком рабочем поселке, который назывался Студеным Оврагом. Небыл виделся с ними редко — добро, если в служебный отпуск, а отпуск он получал не каждый год.
Друзья пытались его сосватать, пристроить к порядочной женщине. Этот человек должен был принести счастье — веселое, легкое, доброе. И его попрекали все, кому не лень:
— Спишь на раскладушке, один, как дежурный или евнух. Это же грех!
Небыл отвечал с серьезностью:
— Братцы, у меня сестричка старшая в девицах ходит. Выпрыгивать раньше нее? Неудобно. И потом, ну какой я муж, какой отец! Моя жизнь — на колесах, на крыльях, на веслах, в седле. Я бродяга. Ходить в женихах лестно.
Читать дальше