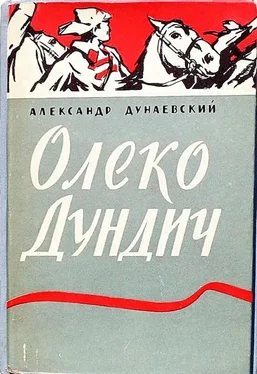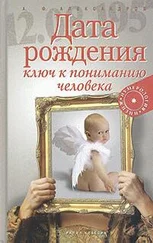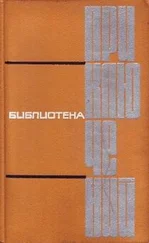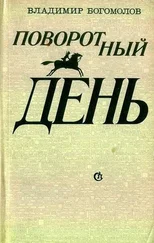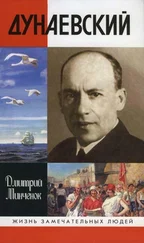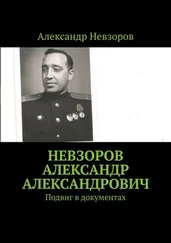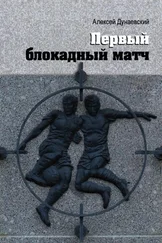— Верхоконники!
Из облака пыли выплыли головы всадников, лошадиные морды. Это была конница. Но чья? Красная? Белоказачья? Баварская?
С каждой минутой всадники приближались. Сразу трудно было определить, кто они. И только тогда, когда глаз ясно различил остроконечные каски, зелено-серые мундиры, всем стало ясно — баварская конница.
— Немцы, немцы! — понеслась тревожная весть по вагонам.
— Догнали, проклятые! — заголосила Ашота. — Деваться некуда, пропадем!
Как ни хотелось Рудневу казаться на людях спокойным, он не мог скрыть охватившую его тревогу. Да и как не тревожиться, когда во всем эшелоне десять бойцов! Все вооруженные отряды и бронемашины — впереди. Отбивая атаки белоказаков, они упорно расчищают железную дорогу. Что делать? Какими силами встретить врага? А тут еще крики женщин, плач детей…
Невольно на память пришла поговорка, услышанная под Харьковом от балтийского матроса. Это было осенью 1917 года, когда он, Руднев, тогда еще командир красногвардейского полка, обезоруживал казаков, пытавшихся через Белгород и Томаровку пробраться на Дон к белому генералу Каледину.
«Если один матрос, — говорил балтиец, — останется в живых — не считай флот конченным». В эшелоне как-никак не один, а десять человек с винтовками. Он, Руднев, одиннадцатый, его ординарец — двенадцатый. Если рассуждать по-флотски, эшелон нельзя считать конченным!
— Всем залечь! До моего приказа огня не открывать! — скомандовал Руднев.
Расстояние между драгунами и беженцами все сокращалось. Теперь можно было и невооруженным глазом увидеть всадников. От конского топота гудела степь.
И вдруг нежданно-негаданно из балки вылетел эскадрон навстречу немцам.
— Наши! Наши! — дико закричал от радости машинист.
— Это еще бабушка надвое сказала, — возразил Сороковой. — Боюсь, как бы они с драгунами не соединились, по эшелону не ударили.
Предположение Сорокового не подтвердилось. Гусары развернулись для атаки, и мигом конники столкнулись. В степи закипел бой, началась сеча.
— Ай да рубака! — теперь уже восхищался Сороковой. — Глядите вон на того, что на рыжем коне! До самого седла крошит. И все левой, левой! Да и правая у него не гуляет. Правой рукой с нагана бьет.
— Руки заняты, а конем как управляет? — спросил кто-то с земли.
— Ногами, — ответил Сашко. — Конь, видать, его без повода понимает.
Стремительный налет неизвестно откуда появившихся гусар вызвал панику среди драгун. Не выдержав атаки, они поспешно отступили.
Гусары же на рысях двинулись в сторону железной дороги.
Руднев слез с крыши вагона и направился навстречу неизвестным всадникам. Ему хотелось сердечно поблагодарить за помощь, оказанную эшелону, поздравить с удачной атакой, но, подумав, он воздержался. В ту пору по донской степи бродили разные конные отряды. Что это за отряд, за кого воюет?
— Кто такие? — спросил Руднев у ехавшего впереди гусара.
— Мы другови, по-русски «товарищи», — объяснил гусар, приглаживая рукой выпавшую из-под шапки черную как смоль прядь волос. — В нашем отряде сербы, хорваты, боснийцы — ваши другови.
— Другови, — повторил Руднев: ему нравилось это хорошее, емкое славянское слово. — Скажите, кто ваш командир?
— Я, — ответил левша. — Позвольте представиться: Алекса Дундич *.
— По-нашему — Олеко, — заметил Руднев.
— Может быть, и так, но в Одессе меня еще Иваном звали.
— У русских это самое распространенное имя. Нравится оно вам?
— О да! — воскликнул Дундич. — Прошу, называйте меня по-одесски — Иван.
Дундич произносил русские слова, делая ударение не там, где следует. Однако эти неточности придавали его речи особый колорит, особую характерность.
Пока Руднев разговаривал с Дундичем, из вагонов на перрон высыпали старики, женщины, дети.
— Скажите им несколько слов, ведь вы их спасители, — предложил Руднев.
Дундичу никогда не приходилось выступать на собраниях, произносить длинные речи, но все же ему хотелось рассказать людям о своих боевых товарищах.
Все они иностранцы, но не ландскнехты [1] Ландскнехты — так в средние века в Западной Европе называли наемных солдат, готовых сражаться где угодно и за кого угодно, лишь бы только их служба хорошо оплачивалась.
. Сначала служили в Одесской интернациональной Красной гвардии, а теперь — в Красной Армии. У себя на родине — в Сербии, Хорватии, Боснии — они испытывали такой же гнет, такую же нужду, как и их братья — русские пролетарии.
Читать дальше