— Иду-у, — откликнулась та добродушно и вскоре на вытянутых руках внесла блюдо с парящей картошкой, до румянца тушенной с мясом и лавровым листом.
— Ну, сосед, командуй парадом, — подтолкнул отца локтем Борис Никанорыч.
— Тебе налить, дочка? — приподнял отец бутылку красного и, поскольку Валентинка не ответила, наполнил ее рюмку. Тете Кате, как уже называла про себя Валентинка толстую женщину, Борису Никанорычу и себе отец разрешил водки.
Борис Никанорыч поднялся, прямой, как жердь, скользнул по лысине ладонью, будто откидывая назад волосы, привычно торжественно произнес:
— Огромный праздник у нас. Миллионы душ человеческих страдают в одиночестве — война осиротила их. Друзья, работа, солнышко в небе — все меркнет, все застилается болью, когда потеряны муж, жена, когда дети живут на земле, не зная, чья кровь бьется в их жилах. Погибших не вернешь. А вот то, что Семен Иваныч отыскал свою кровиночку, то, что она теперь с ним навсегда, — это справедливо и это прекрасно. За тебя, Семен Иваныч, за дочь твою Валентину!
Вино оказалось кислым, вязало во рту. В деревне Валентинка пробовала и водки, и самогонки, и бражки: приходилось, иначе выкажешь хозяевам неуважение. Да что пробовала — пригубляла только. И все равно всю передергивало. И теперь она схватила вилку, беспомощно оглядывала стол, не зная, чем заесть. Тетя Катя тут же нагребла на тарелочку салату, и Валентинка набила рот. Щеки отдулись, она стеснялась жевать, чуть не поперхнулась, захотелось обежать из-за стола, тем более, что Борис Никанорыч тайком ее разглядывал.
— Бери сама, чего захочешь, — сказал отец, отодвигая свою недопитую рюмку. — Ты ведь дома.
Ой, не дома, не дома! Крыльцо, которое она добела терла тряпкою с крупным песком, сенки, где стояли ведра, висели коромысла, грабли, рогожные пахучие кули, комната со столом и шифоньером, слева кухонька, бачок с водою и плитка, перегородка, штора, а там, за нею, ее кровать, ее полочка с книжками… Нет, не дома, не дома!..
— Еще по одной, — сказал Борис Никанорыч, опять поднимаясь. — За светлую память страдалицы Марии, пусть земля ей будет пухом. — Голос его упал до шепота, и слышны стали на улице ребячьи голоса, стук доминошек по фанере.
Веки жгло Валентинке, колючка зацепилась в горле. Валентинка изо всех сил крепилась, теребила пальцами край скатерти. Отец выпил до дна, в лицо его кинулись красные пятна. Он сцепил в замок задрожавшие руки, отвернулся к окну, осел плечами.
И не комната, которую Валентинка толком-то и разглядеть не успела, а вдруг — в нарах, в свернутых крючками телах, в узлах, в чемоданах — вагон поплыл перед нею. И смутно лежало тело, покрытое залатанным одеялом, и были жалостливые женские голоса, а потом розовая неправдоподобная трава, малиновая птаха на метелке травы, легонькая, с мизинчик, и круглое, все в рыжих космах солнце на небесной закраине. Нет, не могла же она помнить такого, это слышано, вычитано и перемешалось в душе, стало памятью. И Валентинка очнулась, выпустила край скатерти, насилу успокоила дрожащие губы.
— Так я и не нашел, где Маша погребена, — тоже совладав с собою, сказал отец и расстегнул все пуговицы на вороте рубахи, той самой, в которой приезжал к Валентинке первый раз.
Борис Никанорыч провел узкою ладонью по своему лицу, как бы снимая с него паутину, протянул: «Нда-а» и неловко свернул разговор на другое: на завод, на какие-то стальные листы. Валентинка с трудом слушала — начали слипаться веки, и опять словно покачивался вагон электрички. Ведь так ладом и не спала: толчки будили, голоса.
Тетя Катя, все это время молчавшая, распорядилась:
— А ну-ка, мужики, отправляйтесь, Вале отдохнуть надо!
Лишь теперь Валентинка обнаружила, что в комнате две кровати: одна, узенькая, поблескивала круглыми бомбошками, новенькой голубой эмалью, другая, у отдаленной стены — пошире, с грубыми, кое-где погнутыми железными прутьями. Отец поспешно встал, зашуршал папиросной пачкою, встряхнул коробок со спичками, Борис Никанорыч подхватил отца под руку, чуть пригнувшись, и так оба они вышли и прикрыли за собою дверь.
— Гостинец-то отнести надо, — спохватилась Валентинка, — на улицу Рабочую. — Она позевнула, помотала головой. — И посуду убрать…
— Успеем, все успеем, — успокоила тетя Катя и отвернула покрывало.
Под ним была новехонькая простыня, а снизу еще и другая, они как будто даже, захрустели.
— Семен Иваныч так хлопотал, — сказала тетя Катя. — Столько лет не о ком было. Ну, давай располагайся. А мне умываться надо, совсем опьянела. — Она похлопала по красным со свекольным отливом своим щекам.
Читать дальше
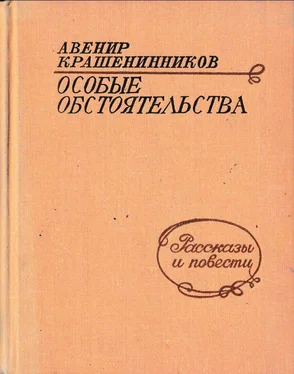

![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-thumb.webp)


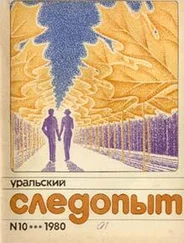



![Авенир Крашенинников - Поющий омуток [Рассказы и повесть]](/books/394626/avenir-krasheninnikov-poyuchij-omutok-rasskazy-i-pov-thumb.webp)


