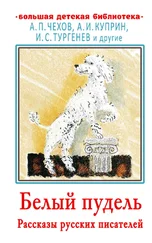Вспомнилось.
Сон, — весьма странный и относящийся вот к такому же, чорт дери, созерцанию: выставил он из окна во сне голову, — в точно таком же халате, играя набрюшною кисточкой и оглядывая Табачихинский переулок; все — так: только комната относилась не к пункту, определимому пересечением параллели с меридианом, а — составляла большущее яблоко глаза, в котором профессор Коробкин, выглядывающий через форточку, был зрачком Табачихинского переулка, мощеного не булыжником, а простейшими данными вычислений — за исключением желтого домика, чорт дери, с этим самым окном, что напротив: окно — отворилося; Грибиков, как стенная кукушка, просунулся, фукая на Табачихинский переулок; от этого «фука» булыжники, троттуары и домики пырснули, распадаясь на атомы, таявшие в радиактивные токи: радиактивное вещество, пересекающее пространства, открыло глаза, оказавшися у себя на диванчике перед мухою в пункте, откуда оно было громко низвергнуто.
Он прислушался к очень зловещему зуду (мухач тут стоял) и, принялся вымухивать комнату; ночью его разбудили; и — подали телеграмму, в которой его поздравляли с единогласным избранием в члены корреспонденты — ведь вот-с — Императорской Академии: тут профессор Коробкин причавкал губами, хватаясь за желтые кисти халата: ему, члену Лондонской Академии и « пшеспольному » члену чешской (что значит « пшеспольный », он ясно не знал; ну, почетный там, — словом: действительный) не следовало бы принимать то избрание; выбрали же действительным членом Никиту Васильича Задопятова, у которого сочинения, — чорт дери, — курц-галопы словесные; доктор Оксфордского Университета, « пшеспольный » там член (и — так далее), и мавзолей своей собственной жизни, — нет, нет: он ответит отказом.
Науку свою он рассматривал, как наследственный майорат; и ему не перечили: про него говорили, что он — максимальный термометр науки.
В своем темносером халате зашлепал к настенному зеркалу: на него поглядели табачного цвета раскосые глазки; скулело лицо; распепешились щеки; тяпляпился нос; а макушечный клок ахинеи волос стоял дыбом; и был он коричневый; он подставил свой профиль, огладивши бороду; да, загрустил бы уже сединой его профиль, да — нет: он разгуливал с очень коричневой бородой, потому что он красился.
Тут раскоком прошелся по кабинетику, вымолачивая двумя пальцами по́ходя дробь.
Кабинетик был маленький, двухоконный: на темнозеленых обоях себя повторяла все та же фигурочка желточерного, догоняющего себя человечка; два шкапа коричневых, набитые желтокожими, чернокожими переплетами очень толстых томов и дубовые, желтые полки — пылели; желтокоричневый, крытый черной клеенкою стол, позаваленный кипами книг и бумаг, перечерченных интегралами, был поставлен к окну; чернолапое кресло топырилось; точно такие же кресла: одно — у окна, над которым, пыля, трепыхалася старая желтокаряя штора; другое стояло под столбиком, на котором бюст Лейбница доказал париком, что наш мир — наилучший; на спинках рукой столяра были вырезаны головки осклабленных фавнов, держащих зубами аканфовую гирляндочку; на столе тяжелели: роскошное малахитовое пресс-папье да массивнейший витоногий подсвечник из зеленеющей бронзы; пол, крытый мастикою, прятался черносерым ковром, над которым все ерзали моли.
Вниманье Ивана Иваныча обратили какие-то смутные шумы и смехи за дверью, ведущей в изогнутый и оклеенный рябенькими обоями корридорчик; он, шлепая туфлями, крался прислушаться: да-с, — раздавалися фыки и брыки: и — да-с: голос горничной, которую лапили:
— Ах, какая, право, мигавка, милаша…
— Ну вас…
— Марципанчик, масленочек…
Дарьюшка вырывалась:
— Мозгляк, а туда же, — за пазуху: барыне вот пожалуюсь.
— Мед!..
— Ну-же вы, — мастерничать!
Голос принадлежал, — нет, скажите пожалуйста — Митеньке, сыну: профессор в сердцах распахнул кабинетную дверь, чтобы вмешаться в постыдное дело; но не было фыков и брыков; профессор растерянно поморгался:
— Ах, чорт дери: да-с… Взрослый мальчик уже… Ай-ай-ай, надо будет сказать, надо меры принять, чтобы… так сказать… Надо бы…
Тут он задумался, вспомнив, как кровь в нем кипела, когда он был юным, когда напряженье рассудочной жизни в периоды отдыха подвергалось аттакам безсмысленной глупотелой истомы; тогда со стыдом убеждался и он, что с большим интересом выглядывает — ведь вот из-за функций Лагранжа на голую, бабью, огромную ногу, пришедшую мыть полы; со стыдом он, бывало, упрятывал глазки за функции. Фекла же, которой принадлежала нога, жила в желтопузом довольстве с безносым мужчиной, устраивавшим кулачевки; Иван Иваныч же, выдвинув женский вопрос, ни о чем таком думать не смел; и страдал глупотелием в годы магистерской, даже докторской жизни — до появления Василисы Сергеевны, поборницы женского равноправия, на его горизонте, когда был назначен на кафедру математики он.
Читать дальше