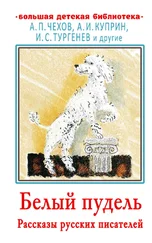Как расхлопался царь глазищами!
Подлыгалы, спесь да знать!
Как взбурлили смерды, нищие,
Словно встали воевать!
— Ну, и ладная! Ну, и баская!
Не похерить, не сгасить,
Ни запугами, ни острастками
Атамановскую прыть!
А и что-ж ты, палач, на расправу не скор?
А и что-ж ты, палач, опустил топор?
А и что с палачем ныне деется,
И с чего ныне кровь не безделица?
Аль прожгло слепоту-глухоту да смрад?
Отчего твои руки, палач, дрожат?
Затрубил трубач,
Начинай, палач!
И взметнулся он, — и охнул
Сброд прислужный и кричат,
Как топор широкий грохнул
У царева у плеча.
— Взбесновался что ли, леший!
Не бывало никогда!
И над царской дышат плешью,
А народ-от кто — куда!
— «Промах! Дьявол!»
Как спросонка
Руганул палач судьбу.
— «Ты дозволь-дозволь мне, жонка,
Во едином лечь гробу!»
XI.
Ой, и мчатся дни-быструхи
Неугончивые,
Не успеешь оглянуться
И очухаться.
Заходили Русью слухи
Переметчивые,
Из конца в конец метнутся,
Дослухайте-ка:
Сгиб палач у покрова,
Умирал, зарок давал:
— «Ты сними-сними, кровяник-топор,
Мой великий грех-зазор!
Ты сумей, сумей до самых плеч
Кривде голову отсечь!
Чтоб на белом на свету-свету,
Позабыли маету!»
— Вон что бают до ночи
Малыши, бородачи!
Видно, молвь то неспроста,
Значит будет вольгота!
XII.
Звонко, звонко утро дышет, —
К чорту сны и марево!
Залихватски солнце вышло,
В гусли загуслярило:
— За работу, с песней красной,
С думами сокольими,
Чтобы молвить: не напрасно
Жили-своеволили!
Январь, 1924.
Москва.
РОМАН
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Печатая 1-ю главу I-ой части моего романа «Москва», я должен сказать два слова о конструкции его, без чего восприятие этой первой главы может быть предвзятым. Идея романа — столкновение двух эпох в Москве; две «Москвы» изображаю я; в первой части показывается Москва дореволюционная; во второй части — «Новая Москва». Задание первой части показать: еще до революции многое в старой Москве стало — кучей песку; Москва, как развалина, — вот задание этой части; задание второй части — показать, как эта развалина рухнула в условия после-октябрьской жизни.
Автор.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ДЕНЬ ПРОФЕССОРА
Да-с, да-с, да-с!
Заводилися в августе мухи кусаки; брюшко их — короче; разъехались крылышки: перелетают беззвучно; и — хитрые: не садятся на кожу, а… сядет, бывало, кусака такая на платье, переползая с него очень медленно: ай!
Нет, Иван Иваныч Коробкин вел войны с подобными мухами; воевали они с его носом: как ляжет в постель, с головой закрываясь от мух одеялом (по черному полю кирпичные яблоки), выставив кончик тяпляпого носа да клок бороды, а уж муха такая сидит перед носом на белой подушке; и на Ивана Иваныча смотрит; Иван Иваныч — на муху: перехитрит — кто кого?
В это утро, прошедшее из окошка желтейшими пылями, Иван Иваныч, открывший глаза на диване (он спал на диване), заметил кусаку; нарочно подвыставил нос из простынь: на кусаку; кусака смотрела на нос; порх — уселась; ладонью подцапал ее, да и выскочил из постели, склоняя к зажатой руке быстро дышащий нос; защемив муху пальцами левой ладони, дрожащими пальцами правой стал рвать мухе жало; и оторвал даже голову; ползала безголовая муха; Иван же Иваныч стоял желтоногим козлом в одной нижней сорочке, согнувшись над нею.
Облекшися в темносерый халат с желтоватыми, перетертыми отворотами, перевязавши кистями брюшко, он зашлепал к окну в своих шарканцах, настежь его распахнул и отдался спокойнейшему созерцанию Табачихинского переулка, в котором он жил уже двадцать пять лет.
Зазаборный домок, старикашечка, желтышел на припеке в сплошных мухачах, испражняясь дымком из трубы под пылищи, спеваясь ощипанным петухом с призаборной гармошкой (был с поскрипом он); проживатель его означал своей карточкой на двери, что он — Грибиков, здесь, со стеною скрипел лет уж тридцать, расплющиваясь на ней, точно липовый листик меж папками кабинетных гербариев: стал он растительным, вялым склеротиком: желтая кожа, да кости, да около века подпек бородавки изюменной, — все, что осталось от личности проживателя этого в воспоминании Иван Иваныча; да — вот еще: проживатель играл с бородавкою скрюченным пальцем; и в этом одном выражался особенно он; каждым утром тащился с ведром испромозглости к яме, в подтяжках, в кофейного цвета исплатанных старых штанах и в расшлепанных туфлях; подсчитывал и подштопывал днями под чижиком — в малом окошечке; под-вечер сиживал на призаборной скамеечке, подтабачивал прописи всеизвестных известий; и — фукал в руки, перекоряченные ревматизмами; он в окне утихал вместе с ламповым колпаком — к десяти, чтоб опять проветряться с ведром испромозглости, — у выгребной сорной ямы. Так мыслью о Грибикове Иван Иваныч Коробкин всегда начинал свой трудами наполненный день, чтобы больше не вспомнить до следующего подоконного созерцания.
Читать дальше