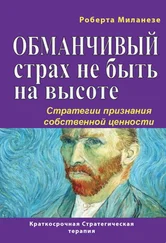Тимофей и теперь порой, встретив усмешливый, золотистый взгляд Симы, заливается по самую маковку краской стыда: в такие минуты в ушах его, как наваждение, стоит тот сухой треск, с которым лопались вши, падая на раскаленное железо…
Из ограды Голубчиковых, когда Мазунин свернул от речки в их огород, повалил народ. Кончились занятия. «Тяжело людям, голодно, а учебу не оставляют», — подумал он, приостанавливаясь около бани, чтобы поправить под ремнем гимнастерку.
Солнце тяжелым блескучим шаром зависло над ельником лога, залило красноватым светом измученную равнину полей. Яркий свет, вспыхнув в окнах, сделал избу похожей на зажженный фонарь, окрасил в малиново-розовое стекла и бревенчатые стены, проявил каждую плавающую в воздухе пылинку.
В этом реальном и нереальном полусвете Тимофей и увидел расхаживающую между столов с мокрым полынным веником в руках Симу, худощавую, бледную, желтокосую.
— Ой, Ти-ма! — вскинув светлые брови, она долго разглядывала Мазунина, застывшего у порога со своей ношей — заплечным мешком. Высокий, по-юношески гибкий в своей военной обнове, он удивил ее уже совсем взрослым, мужским разворотом плеч. Надвинутый низко на брови шлем скрывал знакомый лихой Тимкин чуб, делал осунувшееся, в редких оспинках лицо строже и старше, лишь небольшие, серые, лихорадочно блестевшие от голода и от предчувствия счастья глаза были прежние.
— На фронт со-брался? — отрывисто, словно захлебываясь прозрачным подкрашенным воздухом, спрашивает Сима.
— Ма-туш-ки мои! Не-уж-то! — появляется из-за печи и громко всплескивает руками Яковлевна, такая же, как дочь, низкорослая, темноглазая. Горчичные, как и у дочери, косы ее портят вплетенные от самого основания черные гасники.
— Овчинников записал в свой отряд, — щурясь от солнца, говорит Тимофей. Он достает из мешка пакеты с рисом и кукурузой, протягивает Яковлевне. — Очередной паек. Совсем, гляжу, расклеилась наша учительница.
— По две смены. Кажин день. Все объясняет и объясняет. К вечеру без голоса уж и без сил. Слава богу, сегодня будем есть кашу, — Яковлевна начинает громко ломать на кухне лучину и складывать ее под стоящим в устье печи задымленным таганком. Тимофей снимает кирзачи и устало вытягивает обхваченные узкими галифе длинные ноги. Сима берет в руки его серый шлем с крупной пятиконечной звездой, в закатном свете жарко горящей над козырьком, и примеряет перед вмазанным в простенок осколком позеленевшего зеркала.
Мазунин достает из мешка грифельные доски, карандаши, книжки. Яковлевна, прислушиваясь к их разговору, разжигает таганок, ставит на него чугунок с водой, засыпает рис.
— Стропила, гляжу, на дрова пилите? — озабоченно спрашивает Тимофей. Сима снимает шлем и, глядя в окно на заходящее солнце, устало молчит. Яковлевна горестно вздыхает.
— Как зимовать? Ни дров и ни лошади.
— Дрова мы со Степкой напилим. Сушняку сейчас много. Лошадь Степка у Кузьмы выпросит.
Тимофея, как гостя, сажают за стол в передний угол, женщины садятся напротив, на другую скамью. Еще недавно стол Голубчиковых был богатырских размеров. Теперь, с организацией школы, его распилили на четыре части. За тем, прежним, свободно в один присест размещались сам конюх Харитон Герасимович, его жена Анфиса Яковлевна, двенадцать их сыновей и младшая дочь Сима.
Опустела изба. Хозяина и старшего сына, что заехал с войны на неделю домой, скосил тиф, остальные сыновья на разных фронтах защищают новую власть.
После ужина, пока было светло, Тимофей с Симой спилили на речке за баней две сушины, старые дуплистые липы.
— Сгодятся на черный день. Тут близко, сами вы́носим или из ликбезовцев кто поможет, — успокоила Сима.
Стемнело, и Мазунин засобирался домой. За два оставшихся дня ему нужно было повидать учителя, Степку, заколотить в мельнице окна, чтобы в его отсутствие не поломали и не растащили чего.
— Эко, как черна ночь, — крестя окна, начала отговаривать его Яковлевна. — Незнамо кто бродит в поле на эту пору.
Сима, засветив на столе огарок свечки, поддержала мать.
— Оставайся. И нам веселее будет.
Тимофей нерешительно остановился у порога. Серые глаза его из-под темного чуба смотрели на Симу задумчиво и устало.
Он представил, как угрюмо теперь на заброшенной мельнице, как носятся в полях пыльные смерчи, и на душе его от огня и хозяйского привета стало тепло и уютно.
Тимофей присел на постланную ему на голбчике постель, расстегнув пуговицы гимнастерки, снял ремень и, едва коснувшись изголовья, мгновенно уснул.
Читать дальше