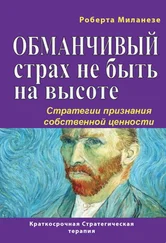— Налимов, скачи в штаб, — тяжело, с хрипом заговорил комиссар. — У них одна возможность уйти: только по Сухому логу.
— А если сюда нагрянут…
— Если, если… Маузер при мне, рука действует, глаза видят. Скачи!
— Ага, вот и свет. Закрой, хлопец, дверь поплотней. Окон тут нет? Давай-ка воду. Ну вот, сейчас будет полный ажур. Потерпи, Максимыч…
Пока красноармеец перевязывал комиссара, Тимка караулил коня и, замирая всем телом, прислушивался, не раздастся ли топот погони. Но в глухой немоте ночи он слышал лишь свое сердце, плеск рыбы в пруду да несколько раз хрипло простонал комиссар.
Проводив красноармейца, Тимка вошел в сарай, плотно прикрыл за собой дверь, сел на мякину рядом с комиссаром.
— Дядя Овчинников, тебе больно?
— Что?.. Ты с чего это решил, что я Овчинников?
— А я вас давно запомнил. С детства, когда вы еще в Пермь не уезжали.
— Как зовут-то?
— Тимофей Мазунин.
— А… Дмитрия Мазунина сынок… Тимка?
— Я и есть, дядя Овчинников.
— Слышал, совсем ты осиротел, Тимка?
— Давно уже.
— А я, брат, тоже… осиротел сегодня.
— Как это?
— Засаду беляки устроили. Избу оцепили… Ну, видно, метили в меня, а попали в мать. Наповал… И похоронить не пришлось…
— А вы-то как?
— А мы, Тимка, просто… Две гранаты им под ноги… И к тебе в гости явились.
— Дядя Овчинников, офицер казачий сказал: вернется, говорит, Полыгалов.
— А зачем он нам с тобой нужен, Полыгалов? Разве мы без него жить не сможем? Верно, Тимка?
— Верно. А только вон их, беляков, сколько через село шло. У них и пушки, и пулеметы.
— И пушки, и пулеметы у них, а бегут от нас, а?
— Бегут.
— И будут бежать. Потому что нет такой силы, которая устояла бы против рабочих и крестьян, которые на социалистическую революцию поднялись. Знаешь, кто это сказал? Ленин.
Долго и о многом разговаривали в ту ночь азинский комиссар Овчинников и деревенский паренек Тимка Мазунин. Так Тимка впервые увидел красных. Так спас прославленного командира.
* * *
С косогора открылся вид на темный еловый лес вперемешку со светлым березником и осинником. Уже отчетливо были видны перед лесом стоящие вразброс по обоим берегам пересохшей речонки около десятка деревянных дворов. Даже издали хутора, как и деревня в этот год, выглядели печальными и неприветливыми. Многие дома и амбары походили на комолых коров. У одних вовсе не было крыш, у других вместо крыш торчали оголенные стропила. Крестьяне еще с лета начали снимать солому на корм скоту.
Спускаясь к речке, Тимофей отыскал взглядом четвертый с краю двор. Что делает сейчас перед сумерками Сима? Может, прошлогодний лист сгребают с матерью в приречном березнике? А то прядет либо вяжет. Маленькие, с твердыми ладонями руки ее, как у подростка, все время в ссадинах, от воды и земли шершавы. По годам не старше их со Степкой Сима, а взрослые и молодежь ее выделяют: интересно с ней разговаривать. Книг она прочла много, хотя всего две зимы в школу ходила. Как переехали в десятом году Голубчиковы на хутор, не отпустил отец Симу учиться: дорога в полях зимой убродная, весной — грязная. Да и зачем при старой жизни крестьянской девушке грамота? Умела бы косить, жать, лен прясть да ткать. В школу не отпустили, зато выревела Сима позволение читать. В длинные вечера при зыбком свете лучины или свечных огарков, при керосиновой лампе в праздники читала книжки. Чаще вслух, потому что полная изба хуторян вечеровать набиралась. Теперь книгами и газетами снабжают ее Мясникова и Школина, а раньше от фельдшерицы да от барышень с винокуренного завода носила, где отец ее служил конюхом. Не из-за одних книжек тянулись хуторяне в дом этот. Все Голубчиковы ясноглазы да приветливы. К таким люди чаще за советом тянутся, с радостью и бедой.
Тимофею припомнилось, как и сам он однажды в январскую студь отогрелся в их доме. Многое из детства Тимофея Мазунина вылетело беспамятное, а то, как мыкался в первые годы сиротства, нарубцевалось на сердце незаживающей раной.
Началось с того, что в ильин день, получив весть о гибели мужа на германском фронте, прямо под ржаным суслоном в горьком беспамятстве свалилась мать. То лето запомнилось Тимке душными грозами, секучей до крови стерней, изматывающей до радужного тумана в глазах работой за себя и за мать на полыгаловской жниве. И знобким страхом перед будущим сиротством. Еще запомнилось, как лежал он рядом с легким, усохшим телом матери на печи в бревенчатой с заиндевелыми углами развалюхе-сторожке и, давясь слезами от жалости к матери и в предчувствии беды, повторял вслед за ней шепотом: «Христос рождается — славите… Христом… Набедряшете… с небасрящете…»
Читать дальше