Весь день на выходной двери висел плакат, срисованный по памяти стенгазетным художником Андреем Паньшиным со старых плакатов военных годов. На плакате была изображена гигантская рука, указующая в цех пальцем. И под плакатом шли слова:
Ты записался в ударную бригаду?
Ты хочешь дать трактор колхозу?
Ты помнишь, что сегодня в ночь бригада выходит к станкам?
В 12 часов ночи Ваня Колчин с тревогой начал посматривать на двери цеха. Работала еще вечерняя смена, и вечер в цехе ничем не отличался от вчерашного, от третьегодняшнего и от прочих вечеров. Но Ване вечер казался тревожным. Казалось, станки шумят ехидно и недоверчиво. А большой бородатый Ефим Стариков, усмехнувшийся какой-то своей мысли, смеется именно над ним, над Колчиным, над комиссаром, бригада которого сегодня не выйдет и опозорит и Ваньку и весь комсомол.
«И чего этот старый чорт не идет? — думал Ваня про Карякина. — Еще раздумал, чего доброго! А вдруг сорвут?..»
В 12 часов 40 минут в цех пришел Терентий Никитич. Его неожиданный приход первой заметила крановщица Настасья. Быстро повернув рукоятку реостата, она под'ехала к главному пролету и громким, смеющимся голосом бросила собственно не столько для старика, сколько для всего цеха:
— Ты, Никитич, чего полуношничать вздумал? Али тоже в комсомол записался?..
— Старый да малый — одна компания, — пискнул от станка рыжий Сайкин.
Карякин недружелюбно посмотрел на него, ничего не ответил и прошел в красный уголок. Там был сбор бригады.
Старик был настроен на рабочий лад. Он чувствовал большое напряжение и не хотел отвлекать себя шутками и пересудами.
Перед самым гудком Митька Банков заиграл в уголке на баяне, и Ванька, все еще беспокоясь и считая глазами приходящих, пошел в пляс.
— Нашли время — ночью плясы устраивать! Работнички!.. — зло и сумрачно ворчал Стариков.
Часовой гудок вспорол ночную тишину, и в прореху эту посыпались голоса уходящих из цеха рабочих. Станки умолкли. Но сегодня не потухал дизельный цех, и попрежнему оконные пролеты светились огнями среди густой тьмы ночного заводского двора.
Замерли над цехом краны. А Настасья, уже совсем собравшись уходить, постояла у двери, о чем-то строго подумала и пошла к двери уголка.
— Чего задумалась, тетка Настя? Пойдем, что ли, — подвернулся Сайкин.
Она молча отвела его локтем и приоткрыла дверь уголка. Там над какими-то чертежами склонились головы комсомольцев. И среди черных, рыжих, белокурых голов выделялась маленькая, угольная, с отсвечивающими блестящими белыми нитями, голова.
«А старик седеть начал…» — тепло подумала Настя, и сказала вслух:
— Крановщица вам не понадобится? А то останусь…
Все головы мигом поднялись, и Настасья увидела возбужденные лица, и зелеными огоньками сверкнули глаза Карякина.
— Ты иди уже домой, теть Настя, — мягко сказал Ваня Колчин. — У тебя ж ребята дома. Не понадобятся краны, теть Настя, не понадобятся…
Она постояла с минуту, помолчала, потом махнула рукой и быстрым мужским шагом пошла из цеха.
На сбор явилось сорок восемь человек. Но Колчин не мог успокоиться. Он продолжал бегать, суетиться, ободрять всех и суматохой своей часто только путал дело.
Терентий Никитич распределил между всеми работу. И скоро старые части трактора уже вертелись на станках. Резцы острыми зубами впивались в них, обдирая дряблую ржавую кожу и придавая им опять молодой блеск.
Некоторые части нужно было совсем сменить. На некоторых Карякин еще утром заметил глубокие раковины. Он сам заходил днем в автогенный цех и просил притти помочь кого-нибудь из сварщиков.
И сейчас в конце цеха, где за большим железным листом стоял автогенный аппарат «Рекорд», добровольно включивший себя в бригаду автогенщик Педашенко — он и был сорок восьмым — принимался за работу.
Педашенко был заводским писателем. Трудно давалась ему литературная грамота. Писать почти не было времени. У себя в цехе он был и председателем производственной комиссии, и агитпропом ячейки, и нес еще много всякой другой работы. Ночами, когда засыпал сын, он сидел над толстыми черновиками и вписывал в них грузные, тяжелые слова. Мыслей у него было много. Он хотел написать о заводе так, чтоб каждый рабочий почувствовал, как болеет за завод он, Педашенко, и как бы он хотел лучше сделать заводскую жизнь и работу. Но не всегда это удавалось ему. Нехватало грамоты, и он опять и опять перечеркивал написанное, и опять слова казались ему неповоротливыми и тяжелыми, как болванки, и нехватало у него таких резцов, чтобы как следует отодрать все необходимые детали.
Читать дальше
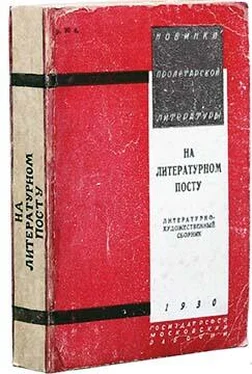
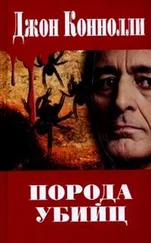









![Александр Исбах - Женщина в Гражданской войне [Эпизоды борьбы на Северном Кавказе в 1917-1920 гг.]](/books/412910/aleksandr-isbah-zhenchina-v-grazhdanskoj-vojne-epizody-borby-na-severnom-kavkaze-v-1917-1920-gg-thumb.webp)
