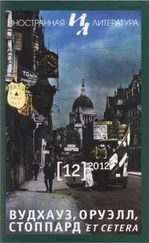Ступал, перебирал ногами Тарзан, бежали, крутились колеса, катилась, плыла меж хлебов по дороге повозка, и также бежали, плыли мысли в Трофимовой голове.
Трофим думал.
Как все быстро идет, летит время! Лето сменяется осенью, осень — зимой, зима — весной, весна — опять летом! Сколько раз видели все это глаза. Посчитаешь — кажется, и много. А подумаешь, вспомнишь — мало, очень даже мало, потому что прошли, пронеслись годы как один день; когда — и не заметил. Короток человеческий век. Одногодки его давно лежат в могилах, мог и он, Трофим, — и не раз! — оказаться на том свете, особенно в войну, когда смерть ходила по пятам. Жизнь прожита, умирать надо. А не нарадовался, не натешился как будто ничем. Ни солнцем, ни небом, ни женой, ни детьми, ни людьми… В девять лет схоронил отца. Ездил, бедняга, за сеном и ввалился в болото. А была филипповка [1] Филипповка — дата по старому стилю: 14 ноября. Филипп — один из 12 апостолов, ученик Иисуса. На Руси после Филиппова дня начинался строгий Рождественский (Филипповский) пост ( Примеч. ред .)
, стояли сильные морозы. Вернулся домой — рубашку нельзя было содрать, затвердела, примерзла к телу… Царя прогнали, передали землю людям… Колхоз принялись организовывать. Опять заботы, беспокойство — как жить будем в том колхозе, если все — и поле, и кони, и коровы — не твое, а общее… Потом… Потом началась война… Всем хватило горя, всем досталось. И тем, кто в деревне своей был, и тем, кто на фронт ушел. Ему, Трофиму, колхоз поручил угнать в тыл колхозных коров, спасти стадо. Больше двух месяцев день и ночь шел он с кнутом за коровами. Бывало, только глаза закроет, уснет — видит эту дорогу: коровы разбрелись по полю, идут, идут с узлами женщины, идут дети, идут запыленные, небритые, почерневшие солдаты… Едут повозки, машины… и все на восток, все отступают… У детей кровоточат сбитые о камни ноги, у коров потрескались копыта. А остановиться, отдохнуть нельзя: следом движется страшное — немцы… Через каждые три-четыре часа бомбежка. Налетают стаями самолеты, сбрасывают бомбы, поливают дорогу из пулеметов… Вначале это пугало чуть только в небе раздавался гул, все разбегались кто куда… Потом и на это перестали обращать внимание, привыкли, будто так и надо…
Под Вязьмой перехватили немцы. Удручен был — как возвращаться назад, домой, если колхозное стадо не уберег. Хоть и нагляделся за дорогу на разное — и на смерть, и на разруху, и на неразбериху, а все же не по себе было, когда думал, что придется перед правлением ответ держать. Коровы же были не чужие — свои…
Без коров, без справки, что стадо попало туда, куда следует, и домой, в свою деревню, возвращаться не хотелось. Попробовал перейти линию фронта. Да радость встречи со своими была короткой: через каких-то два дня попал к немцам в руки, в плен…
Снова пришлось мерить своими ногами ту же дорогу, теперь уже не с запада на восток, а с востока на запад, под конвоем… Где только ни побывал за войну! И в лагере за колючей проволокой на Украине, и в шахтах в Польше, и у панов в неметчине. Вспомнишь иной раз, что пережить пришлось, не по себе делается… Особенно, всегда вспоминается одиночка.
…В одиночку Трофим попал в последний год войны в Германии. Их, пленных, повели в поле грузить на вагонетки сахарную свеклу. Моросил мелкий осенний дождь, даль была затянута мглой, дул пронзительный холодный ветер. Часовой, старый беззубый немец, постояв немного на ветру, и ушел к скирде на гороховое поле, которое было здесь же, неподалеку. Сел там в затишье, поставил меж колен винтовку и, согревшись, видимо задремал. Пленные только того и ждали. Бросились врассыпную, кто куда…
…Его, Трофима, поймали на третий день, когда он пытался переплыть реку. Допрос тянулся долго. Все осложнялось тем, что его приняли совсем за другого человека, который перед этим убежал из тюрьмы. От него требовали признания, с кем, через кого он имел связь с Москвой. Трофим ничего не знал, а потому или молчал, или твердил, что он пленный, убежал из лагеря. Его били, ставили по шею в воду, загоняли в пальцы иголки… Не добившись нужного признания, измученного пытками, чуть живого бросили в одиночку…
Одиночка была тесная, мрачная, с небольшим оконцем-щелью под самым потолком. Дотянуться до окошка, посмотреть в него было невозможно, — оно было слишком высоко. Три раза в день дверь одиночки приоткрывалась. Чья-то рука ставила прямо на пол еду. Утром — кружку горького желудевого кофе, в обед — алюминиевую миску баланды, вечером — кружку чая. К приварку каждый раз тонюсенький, как листок бумаги, кусочек хлеба… И хоть бы какие-нибудь живые звуки, крик, шум… Нет. День и ночь тишина. Ниоткуда ни звука, ни шороха. Словно в могиле. Вначале он считал дни, ночи. Потом и это перестал делать — сбился со счета. Он не брился, не умывался… даже почти не вставал — лежал и лежал неподвижно на полу. Перебирал в памяти все, кто когда-либо случилось с ним — в детстве, в юности… Потом приходило забытье, сон.
Читать дальше