Махорке казалось, что блестит вся дорога. Из-за сосняка било в глаза солнце, не давало глядеть, и он отвернулся.
Подъезжали к повороту, к старому разобранному мосту. За мостом где-то слева было Пунище.
Дорога шла лощиной. На мелком, будто просеянном сквозь решето желтом песке торчали обгорелые сосновые пни, ободранные осями и вымазанные дегтем, и росли хилые сосенки.
За мостом дорога выводила на старую вырубку. Начинался Тартак.
На этом месте, выбитом и телегами и леспромхозовскими машинами с прицепами — тут возили до войны лес,— стоял когда-то тартак — лесопилка. Возле лесопилки была и мельница. Лесопилки давно уже не стало, а молоть зерно на мельницу возил еще Махоркин отец.
На вырубке всюду валялись старые бревна. Длинные и короткие, кругляки и расколотые, они лежали у самой дороги, глубоко уйдя в землю, сгнили, потрескались и поросли белым мхом, струповатым и мелким, как короста; позасыпались желтым песком, который взялся тут неизвестно откуда, скорее всего его нарыли кроты. От сосновых бревен осталась смолистая сердцевина — толстая и бугроватая, она лежала на самой дороге, и тряско было ехать. Стучали колеса — казалось, вот-вот рассыплются грядки; телеги кидало с боку на бок, как на гати возле деревни; откуда-то из мешка брызгала в глаза рожь.
Издалека были видны целые кучи бересты, будто кто сгреб ее и не удосужился забрать или сжечь; возле бересты лежали березовые бревна, почерневшие, с наростами гриба, у комля толстые — не обхватить. Блестели сосновые окоренные кругляки, не сгнили. Так и лежали внакат — в два-три бревна. Когда-то здесь, наверно, были высокие, не достать с земли рукой, штабеля. Потом люди раскатали их кольями и пустили в гатор. Гатор резал твердую, как камень, сосну, засыпая землю вокруг красными от смолы, словно окровавленными опилками; длинными и узкими, натянутыми, как струна, пилами крошил на соль сухие суки, которые шли у дерева от сердцевины. Когда люди, упершись кольями, толкали под брусья бревно, гатор стучал с натугой, будто надрывался. Зато ходил как бешеный, когда махал вхолостую, разбросав в стороны последнее, что осталось от дерева — широкие, тонкие, белые, как сыр, доски. Доски выхватывали из-под пил черные, в смоле, руки и откидывали далеко к штабелю, а с другой стороны на тележках по рельсам снова подвозили под самые зубья сосновый комель, и гатор снова засыпал землю опилками.
Опилки отвозили далеко, к большаку, и ссыпали: они и теперь еще лежат, не сгнили. Там, где лежали штабеля сосновых бревен, на земле блестит смола. Она когда-то стекала с разрезанного дерева, капала на землю и высыхала. Теперь лежит на болоте, словно созревающая клюква. Смолы будто насыпано — и желтой, и красной, и белой. Попадаются и большие комья — с яйцо, и помельче — с орех.
Около гнилых бревен разросся малинник. Густой и темный, он стлался по земле, скрывая щепки и серые выветрившиеся опилки. Поднялись кустики белого сивца, густо разросся вереск, высокий, сухой — одни стебли. Дальше от дороги виднелись кустистые зеленые сосенки и вымахал высокий и стройный березняк — его уже можно было резать на веники.
Лес скрывал истоптанную землю, следы первого тартака, который соорудили тут, когда в хатах еще были холодные, из красной глины полы и когда приходилось, положив на высокие козлы дерево, пилить ручной пилой доску за доской.
Махорка помнит: когда он был еще хлопцем, у них во дворе на козлах пилили доски. Опилок был полон двор — до самого крыльца.
Через несколько лет здесь на вырубке ничего не останется, а это место — лог у реки, лес за мостом на горе — будут все же звать Тартаком, как зовут и теперь. И долго еще будут лежать здесь у дороги белые камни, пока не потрескаются, не обрастут мхом, не почернеют и не войдут в землю навеки. Повсюду вырастет лес — подойдет к самой дороге, как и прежде...
На дороге пахло смолой, густой, сосновой. Так пахла смола на подсочке под Корчеватками. Она и теперь еще лежала там в воронках — ее можно найти возле пней, застывшую, твердую, как камень, и прозрачную, как стекло.
Немцы шли за Настиной телегой, поднимая пыль, отступали от песка в сторону, на траву, обгоняя Буланчика, огибали телегу широкой подковой, и снова сверкало на солнце железо — до рези в глазах.
Махорка подумал, что, видно, так немцы шли и за каменскими бабами, когда гнали их к реке впереди себя.
Немцы шли с перерывом: повалят валом, а потом дорога пустая, только стоит пыль; через некоторое время снова начинали идти — и так без конца.
Читать дальше
![Иван Пташников Тартак [журнальный вариант] обложка книги](/books/398996/ivan-ptashnikov-tartak-zhurnalnyj-variant-cover.webp)


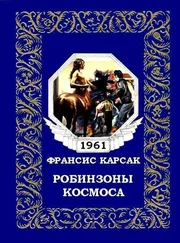

![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)

![Валерий Попов - Через Лету обратно (Запоздалый шестидесятник) [журнальный вариант]](/books/414357/valerij-popov-cherez-letu-obratno-zapozdalyj-shesti-thumb.webp)
