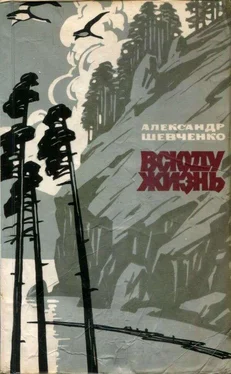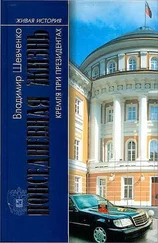Когда мать была в хорошем настроении, детей она называла четырками, а себя растопыркой. Федя каждый раз допытывался, что означают эти смешные слова, но мать всегда только отшучивалась.
Лето мать работала на нижнем складе, что около поселка, на берегу Студеной. Она окрепла, загорела и как будто даже помолодела. На ее красивом лице теперь постоянно играла какая-то новая, незнакомая Феде улыбка: уверенная, смелая, вызывающая.
В дом стали захаживать мужчины.
Одни чинили прохудившуюся крышу, другие помогали матери готовить на зиму дрова. Мать весело шутила с работниками, беспричинно хохотала, и Федя недоумевал, чему она радуется, как девчонка.
Чаще других приходил Григорий Шалагинов.
Федя сразу невзлюбил этого темноволосого жилистого лесоруба лет сорока, носившего пеструю собачью доху. На его заросшем многодневной щетиной коричневом лице всегда было какое-то колючее, неприязненное выражение недовольства и раздражения. Детей он будто не замечал, говорил только с матерью, и, чужой человек, называл мать Надюшей, как отец.
Однажды Федя услышал негромкий разговор бабушки Евдокеи с матерью.
— Чтой-то ты, Надежда, с этим Гришкой-то Шалаем шашни затеяла…
— Не в монашенки же мне идти… Мне ведь только двадцать семь лет, мама…
— Да, женщина ты молодая, видная. Не осуждаю я тебя, а то говорю, что Гришка-то этот — человек шалый, пьяница. А водка — бабьи слезки…
— Эх, мама, мама, да какой же путевый-то возьмет меня с бороной ребят?
— Что и говорить, одной ой как трудно детей растить… Стужа да нужа, нет ее хуже… Только гляди: окоротишь — не воротишь. Мужа ты себе найдешь, а у сирот отца никогда не будет, — всхлипнула бабушка.
Федя похолодел: так вот зачем ходит к матери Шалагинов! Да как же это… Разве может быть у него другой отец? Да никто на свете не заменит отца, никто!
Шалагинов имел в поселке славу никудышного человека. Был он из местных, но долго неизвестно где пропадал, а когда вернулся, не ужился с родственниками и ушел из дому в барачное общежитие.
С того времени Федя с неприязнью стал присматриваться ко всем приходящим к матери мужчинам, огрызался, когда они с ним заговаривали, а то и уходил со двора.
Однажды в конце зимы под выходной мать ушла куда-то в гости. Уложив младших спать, Федя долго ждал ее, все подкладывал дров в печь и, не дождавшись, уснул и сам. Разбудил его холодный снег, который падал на лицо, вызывая озноб. Полусонный, ничего не понимая, он отбросил крючок на двери и тут же свалился на кровать.
Мать наклонилась к нему, поцеловала:
— Ой, сынуля! Загуляла я в гостях! Стучала, стучала — и в дверь и в окна — не достучалась! Пришлось тебя снежками через форточку будить! Ну, спи, спи, мой сладкий!
Она разделась, задула лампу на столе, легла, и тут Федя услышал, как дверь снова отворилась, услышал чьи-то осторожные шаги по скрипучему полу и на фоне окна увидел черную тень мужчины в шапке. Федя весь напрягся, насторожившись, ловил каждый шорох. Человек разделся и лег на кровать к матери. Они долго о чем-то шептались.
Федя вспомнил разговор матери с бабушкой, и горячее чувство стыда, обиды и жалости комом подступило к горлу и прорвалось из глаз солеными слезами. Изба была натоплена жарко, угарно, болела голова, больно стучало сердце, а он все плакал. Так в слезах и уснул. А когда проснулся утром, в избе не было ни матери, ни ночного гостя, и он не узнал, кто приходил, а спросить мать не решался. Он осуждал ее за измену отцу и почувствовал к ней холодок отчуждения.
Через несколько дней вместе с матерью с работы пришел и Григорий Шалагинов. Он сбросил мокрую, вонявшую псиной собачью доху и, натянуто улыбаясь — а взгляд его все равно оставался колючим, неприятным, — поставил на стол бутылку водки: «Для сугреву», сунул Феде кулек с леденцами, но тот не взял его, тогда Шалагинов отдал его Любе, и та вместе с Лешкой стала хрупать и сосать леденцы, а Федя, забившись в угол за печкой, молчал.
В тот вечер Григорий остался ночевать. А потом стал приходить как домой — и днем и вечером, и часто ночевал. Чтобы не видеть его, Федя убегал из дому. А весной совсем ушел к деду Даниле и бабке Евдокее и жил у них все лето.
Однажды пришла мать и сказала, что он должен вернуться домой. Она обрезала косу — некогда, мол, с ней на лесосеке возиться — и с короткой вьющейся прической стала какой-то несерьезной, чудной. Федя долго отказывался, но мать расплакалась, упрекала, что он позорит ее перед всем народом, будто у него нет матери и ему негде жить. Мальчику стало жаль ее, да и увидел он, что постоянно жить у деда он все равно не может — тот воспитывал большую семью старшего сына Иннокентия, погибшего на фронте, и Федя молча пошел за матерью.
Читать дальше