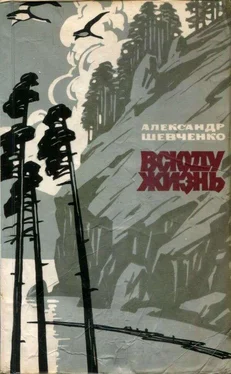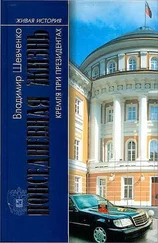Та по дороге волновалась, то улыбалась, то всхлипывала, все повторяла, что он уже большой и должен понимать, что ей одной невмоготу растить трех детей.
У дома их ожидал Григорий — выбритый, чисто одетый. Он засуетился, пропустил их во двор, а потом забежал вперед и протянул Феде руку, будто взрослому:
— Ну, здравствуй, сынок, здравствуй…
Федю неприятно поразило слово сынок; он понял, что теперь Григорий будет жить у них. Подбежал Шайтан, подпрыгивая на трех ногах и поджимая подбитую заднюю ногу, заскулил, забил пушистым, закрученным баранкой хвостом и заковылял впереди, повизгивая и глядя на Федю преданными, полными собачьей тоски глазами.
— Видишь, даже Шайтан соскучился по тебе, — мать погладила голову Феди. Они пошли не в дом, а к летней кирпичной печурке, сложенной во дворе. — Федечка, ты, наверное, проголодался? — спросила мать необыкновенно высоким, ласковым голосом, который от этого казался притворным, — таким сюсюкающим тоном она с Алешкой говорила.
— Счас мы мигом сварганим ужин, — бойко вмешался Григорий. — Это нам раз плюнуть!
Он нарезал на большую сковороду ломоть сала, которое зашипело, зашкварчало и запрыгало по ней, разбил десяток яиц и принес готовую яичницу на стол, что находился в тени под стеной избы.
— Надюша, надо бы выпить за благополучие, — исподлобья просительно взглянул Григорий на мать, но та резко оборвала его:
— Уже выпил, хватит! — И обратилась к Феде: — Ты ешь, ешь, родненький, не стесняйся… Теперь Григорий Петрович будет жить с нами…
Григорий насильственно улыбнулся:
— Ты не возражаешь, Федя?
Федя понял, что все уже решено без него и ничего изменить нельзя, и ему стало тяжело от сознания непоправимости случившегося, и все стало безразличным, даже есть не хотелось. А мать и Шалагинов наперебой говорили ему:
— Григорий Петрович человек хороший… Нам будет легче жить…
— О, Федюха — заживем кум королю!
— Мы уже расписались с ним… Теперь он тебе отец, Федечка…
— Мы подружимся с тобой, сынок, будем на охоту ходить! — Григорий сгреб маленькую детскую ладошку в свою большую ладонь и похлопал левой рукой.
А Феде хотелось плакать от невыносимой тоски, что теснилась в груди, и вдруг он вывалил свою яичницу наземь Шайтану. Григорий, нахмурясь, посмотрел, как собака жадно глотала яичницу, перевел глаза на ботинки Феди и сказал глухо, покашливая:
— Гляди, в какой рванине Федюша ходит. Надо купить ему новые ботинки. — Он обратился к Феде: — Поеду в район, привезу самые модные, с острыми носами.
Сидели долго, дотемна. Вечер был тихий, теплый, мошкара перестала жалить, но ничто не радовало Федю, ему было тоскливо и одиноко.
В доме сразу легли спать, но Федя не мог уснуть и среди ночи тихонько вышел на волю.
Ночное небо полыхало бесчисленными звездами, и не было ему ни начала, ни конца. А Федя был один со своей тоской на огромной спящей земле. Прибежал Шайтан. Федя положил его голову себе на колени и долго сидел на крыльце, поглаживая морду собаки. Потом пошел в сарай и там на куче сена, обнявшись с Шайтаном, уснул.
2
Нет, не стала легче жизнь Устьянцевых, когда в дом пришел Шалагинов. Ненадолго, всего на несколько месяцев, обозначился было просвет к лучшему. Купили кое-какие обновки, мать повеселела. А потом отчим стал все чаще приводить в дом своих дружков: Мартьяна Дико́го, Назарку-гармониста и просто всяких встречных-поперечных и требовал, чтобы мать всех угощала.
От тех детских лет в память Федора навсегда врезалась одна картина и затмила собой все промежутки трезвой, спокойной жизни, будто бы этих светлых промежутков вовсе и не было.
…В едучем табачном дыму, синими пластами заполонившем избу, тусклым размытым пятном чадит керосиновая лампа. Вокруг стола, загроможденного бутылками, мисками с картошкой, капустой, открытыми консервными банками, сидят лесорубы.
Низкорослый, с широким плечистым туловищем Назарка непомерно длинными обезьяньими руками растягивает обшарпанную гармошку, кривыми цепкими пальцами перебирает пуговки ладов, и под визгливые, пронзительные звуки хрипящие, надрывные голоса вразнобой тянут:
Эй, баргузин, пошевеливай вал,—
Молодцу плыть недалечко.
Лохмато заросший черным волосом Мартьян страшно скрипит зубами:
— Тоску нагоняешь своей музыкой, Назарка… Давай что-нибудь повеселее…
Назарке что — он любую может, какую закажут. С белым плоским лицом, коротким вздернутым утиным носом, широким до ушей ртом и расчесанными на пробор жидкими льняными волосами, он похож на угодливого дореволюционного приказчика. Вскинув трехрядку, Назарка начинал плясовую:
Читать дальше