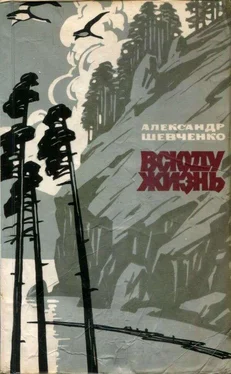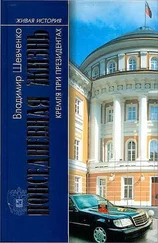С утра лесорубы толкались возле десятницкой, ждали из сплавной конторы кассира, который должен был привезти получку. Лесорубы еще издалека услышали тарахтенье мотора, такой необычный в мертвой таежной тишине стрекочущий машинный звук. Шум моторки приближался, и люди стали выстраиваться в очередь к столу, за которым обычно работал кассир.
Трескун заглох… Значит, моторка пристала…
И в этот момент с берега донесся истошный вопль:
— Убивают! На помощь!
Рабочие бросились к причалу.
Кассир и моторист стояли у воды и кричали, что бандиты отняли портфель с деньгами, а недалеко от берега в лодке возились двое, пытаясь завести мотор.
Отец Федора первым поплыл к моторке и ухватился за борт. Один грабитель стал бить его шестом, но отец был сильный и влез в лодку. Тут мотор завелся, и лодка рванулась на быстрину, описывая крутой дугообразный след.
Отец ухватил руль и направил лодку к берегу, грабители пытались оторвать его от мотора, били шестом по рукам, по голове, но отец не сдавался, лодка быстро приближалась к причалу, тогда бандиты ударили отца ножом в шею и столкнули в воду, а сами умчались вниз по реке. Отца подняли из воды уже мертвого и привезли в поселок на осиновой долбленке. Поперек шеи тянулась глубокая открытая рана, черная от запекшейся крови…
Федя впервые видел близкого человека мертвым.
Опухшее, белое, будто обсыпанное мукой, лицо, на котором пробивалась жесткая светлая щетина, аккуратно зачесанные на пробор густые светлые волосы, сложенные на груди большие узловатые руки — все было его, отцовское, но это был уже не отец, а всего лишь его пугающе холодное тело, такое же неодушевленное, бесчувственное, как одежда, в которой он лежал, как пахнущие лесной живицей новые сосновые доски, из которых был сколочен гроб.
У изголовья трещали тонкие, как карандаш, восковые свечи, распространяя приторно-сладкий удушливый запах ладана, их колеблющееся пламя дрожащим желтым светом тускло освещало избу. Бабка Василиса — в широких черных одеждах, на коричневом сморщенном лице, как горящие угли в печи, сердито сверкают глаза — всю ночь нараспев читала непонятные молитвы, в избу приходило много разных людей, они стояли у гроба, что-то говорили, гладили волосы Феди, жалели его, а он, забившись в темном углу избы, распухшими от слез глазами глядел на людей и не понимал, зачем взрослые читают молитвы, что-то делают, что-то говорят, когда отцу все это не нужно, и надо молчать, ибо не существует на свете слов, которыми можно высказать тот страх перед черной бездной, куда навсегда уходят мертвые люди, который больно сжимал маленькое трепещущее сердце Феди.
Утром он вышел на волю и остановился около деда Данилы, который, стоя на коленях, топором тесал из бревен лиственницы крест. Десятник недовольно сказал деду, что сын его был коммунистом и надо поставить на могилу пирамиду со звездой, но дед сурово ответил, что сын его крещеный и хоронить его надобно по христианскому обычаю.
Вытесав два бруска, дед выбрал в них пазы и скрепил большими гвоздями.
— Деда, а где сейчас папка? — высказал Федя мучивший его вопрос.
Дед остановил топор и поднял черные, истерзанные болью глаза на внучонка:
— Умишка-то у тебя еще мало… Прилегла его душа, успокоилась.
Он велел Феде развести из щепок костер и, докрасна раскалив на огне железную скобу, стал выжигать на кресте фамилию и имя отца, а слезы его падали на горячее железо и с шипеньем вскипали.
На кладбище гроб повезли на телеге. Мать шла за нею, повалившись на гроб, и причитала, и выла утробно, и рвала на себе распущенные волосы:
На кого ты спокинул меня
Одну-одинешеньку,
С детьми да со малыми,
Сиротами разнесчастными…
Кладбище находилось на отлете, на высоком речном крутояре, маленькое, заросшее высокой травой, дорога к нему не была наторена, и телега подпрыгивала по кочковатой земле, и тогда мать билась головой о крышку гроба.
Когда гроб опустили в могилу, кто-то сказал Феде, что он должен бросить горсть земли; он сжал в руке ком холодной глины и по свежей рыхлой насыпи подошел к яме, увидел ее зияющую черноту и пошатнулся от страха, что упадет в могилу и его засыпят вместе с отцом.
Он с ужасом увидел, как быстро и споро, будто торопясь, заработали лопатами трое лесорубов, и услышал, как с гулким стуком земля падала на крышку, и ему представилось, что он лежит там, в темноте, сдавленный в гробу, задыхается без воздуха, и его затошнило.
Читать дальше