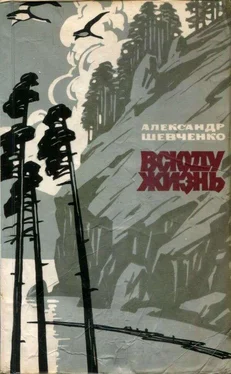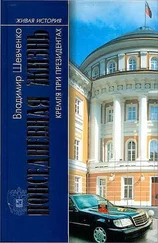Завизжала застывшими петлями дверь, и сквозь облако морозного пара в избу вошел отец. От его задубевшего полушубка несет ледяным холодом, запахом свежеспиленного дерева, лесной хвои, конского пота и дыма костров, у которых согреваются лесорубы. На обожженном морозом лице резко выделяются обнесенные белым инеем брови и ресницы. Отец громко хлопает огромными меховыми рукавицами и напряженно улыбается замерзшими губами:
— Ну и клящий мороз сегодня!
Он такой сильный, большой, что Феде кажется, головой задевает потолочные балки. Зимние вечера, когда за столом собиралась вся семья, были для Феди самым счастливым временем. Вкусным паром дымится тушеная картошка со свининой, кисловато пахнет мягкий, еще теплый домашний хлеб, сочно хрустит квашеная капуста.
У отца на коленях Леша. Четырехлетняя Люба и Федя, семилетний первенец, сидят на одной лавке рядом. Отец рассказывает, что сегодня голодный медведь-шатун забрел на лесоучасток. Увидевший его придурковатый парень Митяй заорал благим матом и бросился наутек, а медведь, испуганный его криком, подался в другую сторону, в тайгу. А могли бы свалить медведя — в теплушке висит ружье, заряженное жаканами.
— И тогда бы мы отведали свежей медвежатинки, — смеется отец. Когда отец улыбался, у него смеялись белые ровные зубы, сияли радостью добрые глаза и все лицо озаряло выражение такой полной, бьющей ключом радости жизни, что и Феде хотелось улыбаться.
В рассказах отца дальняя тайга, где Федя не бывал, возникала, полная лесных страхов, диковинного и таинственного, как тот край земли, о котором рассказывала бабушка Евдокея, где за лесами, за горами и долами среди непроходимого бурелома и бездонных болотных трясин начиналось сказочное тридевятое государство, Кащеево царство.
Уже взрослым Федор как-то среди всякой рухляди нашел на чердаке свои первые в жизни детские коньки — деревяшки с железкой вместо полоза. Сердце его больно сжалось, он вспомнил зимний вечер, когда отец сделал эти коньки. Он сидел с отцом у открытой топки печи, в которой отец докрасна нагревал железку, а затем изгибал молотком на обухе топора и крепил к деревянным брускам, выстроганным по форме пимов, раскаленным гвоздем прожигал в брусках отверстия для ремней. Прижимая к груди теплые, пахнущие горелым деревом коньки, Федя тогда долго не мог уснуть, все представлял, как завтра выедет на речку и заскользит по льду…
Запомнилось ему и одно зимнее утро.
Наверное, было воскресенье, потому что отец был дома и дети забрались на постель к отцу и матери. Отец то обнимал детей, которые наперебой лезли к нему, то брал на руки, поднимал над собой, а сам напевал какую-то песню. Федор не знает, что это была за песня, он запомнил из нее всего несколько слов:
Куревушка, курева,
Закутила замела
Все дорожки, все пути,
Нельзя к милому идти.
Ему до сих пор хочется узнать, что за песню пел тогда отец. Видно, песня была близка ему, и через нее Федор прикоснулся бы к душе отца, но эта песня так и не встретилась ему… Федору до боли обидно, что его слабая детская память удержала так мало воспоминаний об отце. Какие-то отрывочные, бессвязные картины.
Вот отец, видно впервые, сажает его на лошадь. Феде кажется, что он вознесен на огромную высоту, он в страхе уцепился ручонками в гриву, а отец, придерживая его за рубашку, медленно ведет коня по двору.
— Миша, уронишь мальчонку! — кричит испуганная мать, а отец смеется:
— Ничего, пусть привыкает, казаком будет!
Когда это происходило, сколько тогда лет ему было — Федор не знает.
Осталась в доме от отца одна лишь вещь, трофей, который он привез с войны, — круглые, размером в дно стакана танковые часы, снятые с разбитой машины. Они и до сих пор идут безотказно, и, вслушиваясь в их тиканье, Федор как бы слышит биение отцовского сердца.
2
Зимы были суровые, без оттепелей, и тянулись так долго, что все уставали от темноты, холодов, от тяжелой, сковывающей тело одежды и нетерпеливо ждали весны, радовались даже самым первым ее приметам: вот свету прибавилось; вот появились первые легкие облачка и открылись чистые небесные разводья, на белый, искрящийся снег упали густые, как бельевая синька, тени; вот бахрома стеклянных сосулек повисла вдоль крыши, запела сверкающая капель, и курица под окошком напилась, как говаривала мать.
Пробивалась, набирала силу весна медленно, в трудном противоборстве с зимой. Налетит вдруг с полуночи разбойный ледяной ветер, и снова неистовствуют метели, лютуют морозы.
Читать дальше