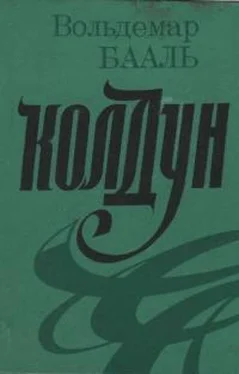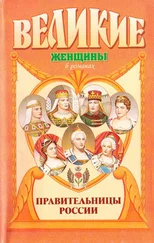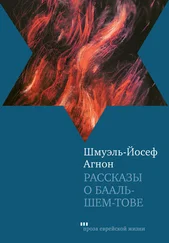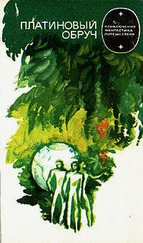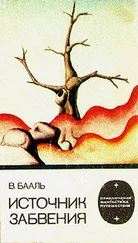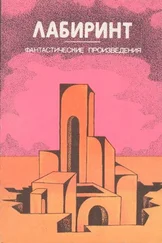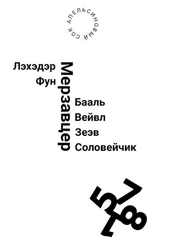Изредка наведывался сосед Николай Петрович. Он был высок и худощав; линии лица были легкими, молодыми, но кожа — сплошь в мелких морщинах; густые, сивые, тяжело лежащие беспорядочными прядями волосы казались неуместными на этой легкой, с решительным поворотом голове. Вместо левой ноги ниже колена у него был протез, который при ходьбе сильно выламывался вперед, но ходил Николай Петрович тем не менее резво, этак прогулочно опираясь на самодельную уродливую трость. На нем неизменно была светлая из домотканого льна просторная рубаха навыпуск и с расстегнутым глубоким воротом. Взгляд его был зорким и ясным, в серых глазах играли веселые блики. Жил он один, в двух километрах от нас; занимался цветоводством, чем прославился, по словам Риты, на всю республику и даже за ее пределами.
Все домашние относились к нему с каким-то боязливым, хотя и ненавязчивым почтением. Его встречали, против обыкновения, несколько суетливо, сразу же он становился центром внимания, причем это выходило как-то естественно: так вдруг оказывалось, что он заполнял собой все; даже Антон Романович разговаривал с ним не без подобострастия, как ученик или младший. Эту «подчиненность» я заметил во время первого же нашего разговора и разозлился на себя: я не хотел «подчиняться». С какой стати? Ведь просто встретились два человека, он и я, скажем, в ресторане за одним столиком или в поезде. И тем более было досадно, что ни знаниями, ни интеллектом, ни каким-то особенным положением он меня не подавлял, а просто смотрел таки говорил так, как хотелось ему, а не мне, и линия разговора велась им. И еще я был недоволен тем, что меня потянуло не только подчиняться ему, но и довериться: я почти разоткровенничался.
После знакомства и прочей «официальной части», когда Ольга Андреевна занялась вязанием, положив на ноги грелку, а Анна в своем привычном вечернем наряде сортировала и развешивала травы на сушку, мы, не отрываясь от чая, посмотрели друг на друга, и стало ясно, что состоится разговор.
— Стало быть, учительствуете? — спросил он.
— Да.
— Язык и литература?
— Вы проницательны. — Я улыбнулся, и улыбка вышла «подчиненная». Впрочем, он тоже улыбнулся.
— Как вам тут?
— Доволен по всем статьям. После города, знаете...
— Да-да...
— Я ведь так замотался в последнее время, что, честное слово, уже какие-то странности стал за собой замечать. В общем, изработался, дошел, как говорится, до ручки.
— Бывает, конечно...
— А здесь так по-иному все, так особенно, надежно. Одним словом (это я уже как литератор, не могу удержаться от аналогий!) — тургеневский уголок.
— В каком смысле? — глаза его весело блеснули, но я не мог остановиться.
— Ну, само собой, не в каком-нибудь архаическом. Ведь мы как? Раз уж «тургеневское», то значит обязательно что-то такое патриархальное-томное. А по идее-то «тургеневское» — значит, фундаментальное, основательное, со здоровыми народными традициями.
— Разные бывали уголки...
— У Тургенева эти уголки были — настоящая, истинная Россия, та самая, про которую как раз и говорят «кормилица-поилица» и «хранительница основ». Разве не так? Не даром у него — деревня, а не город.
— А город, по-вашему...
— Город, — перебил я, — всегда заносило. Судороги времени.
— Категорично, — сказал он. — Очень категорично делить жизнь на ту и эту. А почему делят? А потому что тогда легче объяснять: разделил — и властвуй над фактами. — Он посмеялся. — Без одного не бывает другого — жизнь едина. Вот вам, например, кажется, Рита — тургеневская барышня: бродит с книжкой, задумчива, вся в свою вымышленную жизнь нацелена, романтические порывы. А посмотрели бы вы на нее в городе — совершенно современная девушка!
— Да тут город близко, — улыбнулась Анна. — Всего тридцать километров. Так что это не пример, Николай Петрович. Да и не про то Александр Михайлович, а про возможность отдыха. Так ведь, Александр Михайлович? Мы же тут, считай, дачники. Вон их сколько, приезжих, летом. Да и только что — живем. А на работу в город ехать...
Все это прозвучало как-то несуразно, сбило мой философский настрой, но все же я был благодарен Анне за поддержку.
— Речь не только об отдыхе, — сказал я, отхлебнув остывшего чаю. — Речь и о другом.
— О чем другом?
— Вот понимаете: вдруг уясняешь себе: жизнь — это устремление напролом. А как же? Есть цель, отпущено тебе столько-то времени — успевай. Отсюда и взвинченность непрестанная, и суматоха, и боязнь опоздать. Время диктует. Все надо делать решительно и быстро. Нет времени на неспешные обдумывания, на пробы разных там вариантов. Впёред! Напролом!
Читать дальше