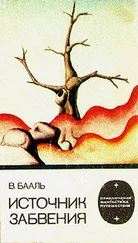Дом располагался на лесистой полосе между морем и полями, тянувшимися в километре с лишним от берега. Он стоял среди дюн, почти закрытый деревьями и кустами, в отдалении от соседних домов и дач. Шум моря и в ветреные дни доносился сюда глухо и неопределенно, и его можно было спутать с шумом сосен.
Когда я выходил, заспанный и смущенный от собственного лежебочества, то натыкался прежде всего на Ольгу Андреевну. Она улыбалась и мягко отвечала на мое приветствие, повторяя почти каждое утро одно и то же:
— Проснулись, Саша... Вот и хорошо...
Мы о чем-нибудь коротко говорили, большей частью о погоде или о домашних делах. Ни разу я не слышал от нее жалоб на болезни, старческих тщеславных заявлений типа «не могу сидеть без дела» (хотя действительно не могла), кряхтений, оханий и тому подобного, что прямо или косвенно напоминало бы о ее возрасте. Я уже знал, что у нее было шестеро детей и пятнадцать внуков, из которых большую часть унесли войны, а остальные (кроме Антона Романовича) умерли или погибли задолго до того, как у них поселился я. Сама Ольга Андреевна никогда об этом не говорила (все я узнал от Риты), и по лицу ее невозможно было прочесть, что она таит что-то, оберегает, хранит для себя — она жила тем же, чем жили другие, прошлое, память еще не овладели ее душой. Она не казалась ни древней, ни дряхлой — это была самая обыкновенная, привычная бабушка, каких рисуют в детских книжках. Я был поражен, когда впервые услышал, что она живет без восьми лет век. Как-то, наблюдая за нашей с Ритой игрой в бадминтон, она в каком-то детском упоении произнесла:
— Солнышко-то! Смотри-ка... Ой, хорошо...
И мне тогда подумалось, что жить она не устала и не даст себе устать, пока у нее будут силы владеть собой.
Шестидесятилетний одинокий сын ее, Антон Романович, редко попадался мне на глаза, мы почти не говорили с ним; окруженный гудящим пчелиным роем, он сосредоточенно топтался возле ульев, и я старался обходить этот уголок сада.
Я шел купаться, потом загорал, растянувшись на гладком горячем валуне; или уходил в лес — просто так, побродить, а то и с лукошком: грибов и ягод тут было вдоволь. А чаще всего никуда не уходил: валялся на траве в саду, читал или что-нибудь мастерил — благо, дело всегда находилось: от починки детского велосипеда до обновления обоев в кухне. И наконец я поймал себя на том, что стал сродни моим новым хозяевам, что веду себя так, словно никогда не закончится мой отпуск и никуда я отсюда больше не уеду.
Больше всего я любил вечера.
Я выходил в сад. Воздух постепенно сырел и становился гулким. Деревья и кусты стояли тихо; они казались сейчас некими одушевленными существами, взъерошенными и нахохлившимися, послушно вдруг, после буйного, суматошного дня присмиревшими в угоду законам какого-то могучего порядка и изготовившимися к покою; очертания их становились все более резкими; любой шорох обращал на себя внимание. Небо темнело, и появлялись звезды. Выпадала роса.
Удивительные переживания наполняли меня в эти часы; мир представлялся бесконечно великим и прекрасным, все живое — неиссякаемо целесообразным и совершенным; мне казалось, что я понимаю, что такое вечность, и стоит только еще немного выждать, и напрячься, и совершить лишь одно незначительное, но верное усилие, и откроется сама Истина истин. Душа моя замирала в сладком предвкушении какого-то небывалого равновесия, а сердце трепетало от сознания собственной малости и краткосрочности.
Вечерние ощущения эти откладывались во мне своеобразными пластами знаний и опыта, словно я проживал бурную, богатую событиями и впечатлениями жизнь. В первые дни я долго не мог потом ночью уснуть, мучаясь вкусом гибельности контраста между ничтожным и слабым созданием, остановившимся в вечерном саду, и угрожающе грандиозным миром, придавившим его. Но скоро острота пропала, пришли спасительные мысли о дерзающем разуме, способностях постичь и преодолеть и так далее, под которые я залез, как под стеклянный колпак. И я уже шел вечером в сад защищенный, готовый к тишине и молчанию, хотя и сознавал, что открытия, постижения «Истины истин» не произойдет, великое равновесие не наступит.
Иногда я выходил из сада в лес; взбирался на гребни дюн, останавливался где-нибудь на свободном месте, чтобы было видно море. Я долго смотрел на него, чувствуя, как тускнеет и прячется только что испытанное в саду; море, особенно вечером или ночью, казалось мне, человеку сугубо континентальному, мрачным и чужим; оно никак не вязалось с моим миром или тем, что выстраивался, открывался там, в саду; оно было явно инородным, несовместимым, ирреальным. Стоило мне рассредоточиться, расслабиться, глядя на него, как тут же воображение образовывало какое-то дикое, фантастическое существо, обозначаемое смутно как «Выходящий из моря»; оно поднималось из-за горизонта, являя собой человекообразный сгусток всех тайн и ужасов дна, омута, средоточие мрака, всего сокрытого и недоступного, лежащего по ту сторону сознания; поднималось, приближалось и смотрело с мертвенной скорбью, негласно призывая заметить, прикоснуться, понять. Становилось неуютно и зябко; я отворачивался, шел назад, открывал калитку в сад, оказывался среди спящих кустов, яблонь, ульев, грядок... сливался со всем этим, растворялся...
Читать дальше