Зал при тусклом освещении был пуст: ни столов, ни картин, ни диванов, ни стульев — только в ряде мест на потолке обвалилась штукатурка и, казалось, потолок зиял черными ранами, да кто-то наполовину скатал гигантский ковер. Он скатан был неровно, извивами и напоминал громадного удава, легшего во всю длину зала.
И вдруг, как привидение, из боковой комнаты вышел Гитлер, а следом за ним — Борман. Гитлер не шел, а шлепал ногами, словно они у него были туго перетянуты в коленях. Сначала фюрер невидящими глазами посмотрел во все стороны, затем глаза вспыхнули, и он, как всегда чопорно, произнес:
— Борман! Видите этот ковер?
— Да, вижу, фюрер, — ответил тот придавленным рыком.
— Мне Геббельс говорил, у Клаузевица, великого военного теоретика, есть такое место: ковер скатывается — это страна накапливает силы, накопит — ковер развернется и смертельно хлестнет врага. Смотрите на этот ковер, он скатывается.
Борман, мрачный, как будто природа навсегда лишила его улыбки, тут улыбнулся и кинул:
— Дорогой мой фюрер, но у нас с вами, кроме этого ковра, ничего не осталось.
— Только? — недоуменно спросил Гитлер.
— Только. И еще вот что, — и, подойдя ко второй двери, он показал в даль коридора, где на толстой цепи, опущенная до полу, висела хрустальная, огромнейших размеров люстра.
Гитлер еще больше обвис и, шлепая ногами, спустился в подземелье, заглянул к своей овчарке и, осведомившись о том, что щенята живы и здоровы, что удушливый смрад подземелья пока на их «самочувствие» влияния не имеет, отправился в свой кабинет и, вызвав Еву Браун, с которой за несколько дней перед этим «сочетался браком», сказал:
— Ева! Все! — и, сев за стол, написал завещание; оно начиналось так же высокопарно, истерично, как и все выступления Гитлера:
«Я свершил то, что не под силу человеку», — затем в завещании он кому-то грозил, что «ухожу с этой земли», потом проявил заботу о том, чтобы картины, наворованные им в том же государстве, которым ему пришлось несколько лет управлять, чтобы картины эти передали в музей городка, где фюрер родился; дальше пошли проклятия — Гиммлеру, Герингу, Риббентропу и прочим, прочим, тем, кто сбежал от него. Написав завещание, возложив «все руководство государством» на Геббельса, он передал ему завещание и добавил:
— Мы уходим. Я и Ева.
Это было в три часа утра тридцатого апреля.
Через час Геббельс тоже составил завещание и, предварительно отравив своих дочерей и жену, отравился сам.
Часов в пять утра Вася увидел мертвых дочерей и жену Геббельса. Сам Геббельс, наполовину сгоревший, лежал на столе, очень похожий на маленькую, худенькую обезьянку. После этого Вася решил покинуть имперскую канцелярию и через развалины, под артиллерийским огнем направился к Громадину, намереваясь обо всем виденном доложить комдиву и испросить у него разрешения отправиться на розыски Татьяны, чтобы помочь ей встретиться с Николаем Кораблевым.
2
Татьяна разыскала Петра Хропова только через несколько дней, что далось ей с большим трудом: она всюду наталкивалась на разрозненные, казалось самостийные и руководимые только единой целью и устремлением — бить гитлеровцев — партизанские отряды. Партизан — русских, чехов, словаков, венгров, французов, англичан, румын, болгар — всюду население встречало с хлебом-солью, угощало вином, но к Татьяне, вернее к ее костюму, модной шляпке, все относились отчужденно, а некоторые — даже озлобленно.
— Мне бы Петра Ивановича Хропова, — заявляла она всем одно и то же.
Партизаны знали Петра Хропова, и каждый из них, подозрительно глядя на Татьяну, тихо произносил:
— Видно, царапнуть хочет нашего Петра Ивановича. Ишь ты, вырядилась! — а иные добавляли: — Вздернуть ее на осину, тогда поглядим, как на ней ленточки-то затреплются! — но простые, ясные глаза, теплый дружественный голос, в котором порою слышалась мольба, покоряли всех, и Татьяна переходила от отряда к отряду, пока в Саксонской Швейцарии, в старинном замке, не столкнулась с Петром Хроповым.
Тот, неузнаваемый в военном кителе, обрадовался ее появлению, при всех кинулся к ней, расцеловался. После этого познакомил ее с руководителем партизанского объединения Готвальдом, который так и вцепился в нее, когда узнал о том, что она больше двух лет проработала в Германии. А на лице у Петра Хропова появилась какая-то скрытая озабоченность, в движениях — ненужная суетливость, спохваченность: сидит или стоит, как бы застыв, и вдруг спохватится.
Читать дальше
![Федор Панфёров В стране поверженных [1-я редакция] обложка книги](/books/393778/fedor-panferov-v-strane-poverzhennyh-1-ya-redakciya-cover.webp)







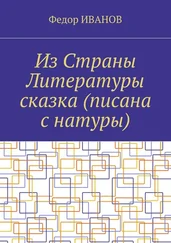

![Федор Панфёров - Борьба за мир [2-я редакция]](/books/398428/fedor-panferov-borba-za-mir-2-ya-redakciya-thumb.webp)

