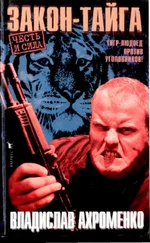Думалось: ну вот, кажется, все, но были еще к о м а н д и р о в к и, а следом за ними навалилась она, Отечественная, и снова началась р а б о т а… В работе Бурденко его и заприметил. И умер отец на р а б о т е, внезапно, как дед — земский фельдшер. Еще утром по многолетнему обыкновению баловался для бодрости гирями, а вечером отца не стало. Взвод солдат из охранроты госпитального городка на опушке подмосковного бора, где сосны с бугристой подзолоченной корой перемешались с белыми березками, салютовал над гробом бывшего красногвардейца и военного хирурга. Поднялись над лесом потревоженные троекратным винтовочным залпом птицы, и с веток ближних деревьев сухой снег ссыпался на глубокие сугробы вместе с жухлыми, пробеленными седым инеем остатками осенних листьев и редких пожелтевших хвоинок.
Кряжистый Багарадзе, говоривший накануне речь, стоял без шапки, опустив большую упрямую голову. Он не шевельнулся ни при залпах, ни тогда, когда березовый лист запутался в его иссиня-черных волосах и лицо обдало сухими колючими снежинками, которые тут же растаяли на щеках, и влажные следы тонко потянулись по его смуглым щекам, от невидящих глаз к гладко выбритому подбородку.
А за неделю до отцовских похорон под этими деревьями троекратно салютовали в память лейтенанта Зайцева, которого он знать не мог, но могила которого оказалась рядом с отцовой.
О Зайцеве ему рассказали на кладбище перед отъездом. В молоденького лейтенанта ударила шальная пуля. Жил он не в казарме, а в крайней избе. Многие офицеры квартировали по избам. Под вечер хозяйка ушла к соседке, а он сидел у оконца за столом и старательно чистил разобранный «вальтер», а в это время дальний караульный возле склада выстрелил неприцельно: то ли просто наобум, то ли что померещилось в зимних сумерках. Пуля долго летела против сильного морозного ветра через пустырь и огороды, но не миновала оконца, хотя и на излете, но сила у пули еще была.
Ему показывали и крайнюю избу, и большую поленницу березовых дров в аккуратном, чисто подметенном жесткой метлой дворике — у сараюшной стенки, — за которой грузно топталась и сопела старая корова, — поленницу за день до выстрела сложил Зайцев, он по утрам любил колоть дрова и делал это о азартом; и пробитое оконце — маленькое отверстие хозяйка заткнула серой тряпицей, и черные огороды, слегка запорошенные снегом, обдутые сильными ветрами, с бедно торчащими сухими трубками прошлогоднего подсолнечника. Он все это видел и вороненый трофейный «вальтер» вертел в руках, потом словно взвешивал курносый пистолет на ладони; немудрящий, но потрясающий откровенностью дневник лейтенантский перечитывал целую ночь — и все представлял, как приключилась нечаянная беда. Погибнуть бы на фронте было бы лучше, почетнее, что ли. Об отце он знал если не все, то многое. О Зайцеве до дневника он не знал почти ничего.
«За эти несколько месяцев я, пожалуй, накопил больше жизненного опыта, чем за всю свою прошлую жизнь, — писал Зайцев в учебном подразделении. — Приходится дело иметь со всякими людьми. И все вроде бы свои. Одну форму носим, один борщ едим, по одним мишеням лупим. Но одни — люди хорошие и честные, настоящие советские, а другие в эти горячие дни больше думают о своем «я», чем о победе. Такие типы в любую трудную минуту отрекутся от всего, что раньше делали или говорили, если дело повернется к ним боком.
Мир плачет кровавыми слезами, а союзники все обещают второй фронт.
Я ненавижу себя за то, что отсиживаюсь в тылу, а Якушенко нравится. Шутит, что ему не скоро в пекло, отправляют по спискам, а он по алфавиту в последних. Еще раз пошутит — сверну салазки. За кормой у него нечисто. Из сибирских подкулачников. Комиссию обвел. Народной беде вроде рад. Советской власти мало еще лет, не всех воспитали как надо. Много еще сволоты всякой, которая готова в спину ударить.
Когда же кончится учебная карусель и я сумею попасть на передовую? В городе трамваи не ходят, стоят намертво; предмет постоянных шуток: окликают кондуктора, спрашивают: «Скоро ли поедем?» и т. д. Пожилая женщина в очереди за хлебом потеряла сознание, упала: украли хлебные карточки.
Вчера ночью вместе с милицией нас бросили на облаву. По чердакам и подвалам выгребли пятерых вооруженных бандитов, десять дезертиров, много мелкой шпаны, просто беспризорных».
Сказали еще, что у Зайцева — ни родных, ни близких. Все рвался на фронт, потому что до войны были и родные и близкие. Он знал, зачем ему дали читать дневник и об остальном так подробно рассказывают: когда две беды рядом, то это всегда легче, вроде бы одна другую приглушает.
Читать дальше
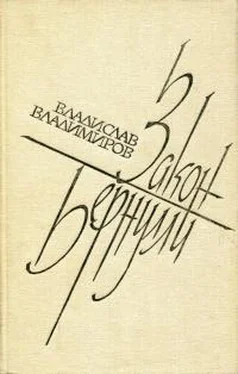

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)