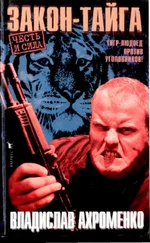И с тех пор чудится ему неотступно, будто не было между этими похоронами интервала в неделю, будто хоронил он их в один день, морозный, с визгливым снегом под санными полозьями день — и отца, и Зайцева Юрия Васильевича, одна тысяча девятьсот двадцать первого года рождения, и будто бы Зайцев давным-давно приходится ему родным и близким человеком. Но вот из двух болей одной не сложилось, и получается, будто перед Зайцевым он виноват в чем-то. И перед родным батей — тоже.
II
От ВДНХ до городка московским автобусом ехать часа полтора летом и два — зимой, электричкой быстрее, а «Волгой» — совсем рукой подать…
III
— Значит, едем, Володя, — пообещал он позавчера Николову, определив себя уважительно на «мы» и шумно вздохнув.
— Слушайте, Петр Николаевич, — обратился к нему Николов, — а почему к вам наведываются легендарные личности?
Он не понял вопроса, но Николов тут же охотно пояснил, подтверждая усиленным жестом:
— Это же Рузаев был. Журналист, писатель. Сло-о-ожный человек! Он сейчас официально на пенсии, один остался, мать-старушка недавно умерла, отца еще беляки повесили, а дочь взрослая давно в Москве… Вы книгу-то его читали?
— Книгу? Не доводилось. А фамилию вроде бы слышал. Рузаев, Рузаев… Нет, нет, читал я Рузаева!.. Из Софии? Из Афин?
— Статьи сейчас он под псевдонимами пишет, не хочет известности. Да вы по знакомству у Марьина поинтересуйтесь!
— Это что же — похоже: после стерляжьей ухи да пустые щи? Неловко объявлять себя после заграниц в скромном качестве провинциального газетчика?
— Может, и так, но книгу он издал под своим именем. У меня есть, с дарственным автографом, — похвалился Николов. — Хотите почитать?
— Дайте, пожалуйста. Напрокат, как говорится. В самолете осилю. Это вроде мемуаров? Четырех часов, надеюсь, хватит?
— Не хватит, Петр Николаевич, сами увидите, что не хватит. Книга умная, наблюдательная, редкая книга.
— А ты сам, Володя, как с ним знаком?
Николов замялся.
— Просто вышло. В ресторане. Но не жалею. Интересный человек! Спасибо прошлому…
— Ага, лучшего места для общения с классиками не сыскать. Ей-ей, я утверждаю это серьезно! — сказал Николову с улыбкой, и веря ему, и втайне досадуя на себя, что напрасно умничал, вел менторски, запальчиво и дешево разговор с этим Рузаевым, — не так надо было, не так! Он вспомнил его настойчивость и многозначаще оброненное т е п е р ь, никак не уравнявшее Рузаева с Песковым и Аграновским, о чем собеседник, обрадованно воспринявший его отказ подписать материал, пожалуй, особенно и не сожалел, и все это рождало запоздалое, но редкое и счастливое чувство полного доверия, которое он давно не испытывал так полно, как сейчас.
IV
…Да, сомневающихся в его способностях и будущности было мало, их быстро переубеждали его же операции и смелость, с которой брал он в руки сердце, чтобы сделать это сердце здоровым. Были и такие, которые независтливо, даже с неким тоскливым сожалением, утверждали, что ничего о с о б е н н о г о в его операциях нет, да и не будет, потому что давно пора перестать ахать и удивляться самому обыкновенному усердию — троюродному родству таланту.
А случалось, отъезжал он подальше на время, они в ожидании заграничных сувениров (водилось за ними сие обыкновение) еще и замечали с тонкой педагогичностью и нажимом на фольклор, что в чужих руках ломоть велик, то бишь со стороны у другого все кажется лучшим, и что в кардиохирургии не всегда оправдывает себя элементарная настойчивость, а на безлюдье и Фома дворянин. Мол, во всем мире с его миллионами и миллиардами людей живут и здравствуют после пересадки сердца только пятьдесят семь человек (это сегодня пятьдесят семь, а завтра их, может быть, уже пятьдесят шесть или пятьдесят пять), а то, что делает он, марсиански далеко от метода доктора Барнарда, хотя в принципе своем, безусловно, гуманно и, возможно, перспективно, но ведь из чистых принципов рубахи не сошьешь.
Большим и деликатным педагогам, с бескорыстным усердием радеющим за истину (парадоксально, но факт: истину в союзники громогласно вербует всякий, даже не обладающий о ней минимумом представлений), хотелось верить больше, чем другим, но просто не находил времени «Фома», чтобы к а к с л е д у е т разобраться самому во всем, да и где-то в глубине души он скорее интуитивно, чем от трезвого расчета, полагал, что разбираться, пока ладно работается, не стоит.
V
«Однако пора двигать», — он поднялся с дивана и, не включая света, вышел к порогу, взял стек — подарок чудаков его п е р в о г о выпуска. На твердой полированной ручке стека назидательная гравировка серебром: «Не перегибайте!» Буковки озорные, витиеватые, ласковые.
Читать дальше
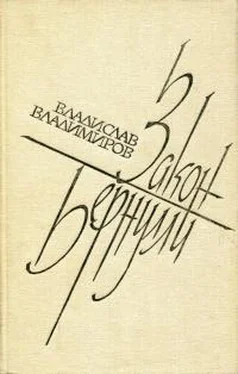

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)