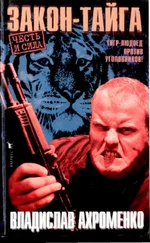— Да, белый пароход, — согласилась она, щемяще вспомнив виденное всего раз в жизни синее море. — Недурно утром отплывать бы белым пароходом на работу! Да, да! Фантастика? Но, как говорится, есть и проза жизни: утром автобусы наши очень ладно ходят, а вот обратно добираться трудно!
Это скользящее, отвергающее близость движение Коновалова обидело ее. Точно — он не хотел никаких сближений. Ей показалось, что Коновалов вообще ее плохо слушает, но в эту секунду он спокойно сказал измененным, сухим, рассудительным голосом, огорчившим ее своей посторонностью:
— Пожалуй, нет за такими горами никакого моря… Хотя…
Ее обрадовало, что он слушает. Но испугала обыденная отчужденность голоса, поняла, что Коновалов все еще выбирает — как же ему быть, что же ему делать, ведь все можно вернуть на свете, но только не эти мгновения, которые не решат без тебя грядущих событий, если ты сам не решишься на что-то.
Чего же ты, Коновалов, медлишь? Давай! Нею бросило в жар, как там, в холодном вестибюле перед выходом к машине, когда Коновалов деликатно помог ей надеть ее плащик и будто невзначай разгладил плечики его. Она загадала с такой же решимостью, с какой некогда отлучала от себя теперь уже давно и навсегда бывшего д р у г а Сашку: все будет у нее с Коноваловым хорошо, если он продолжит за этим своим замедленным, но все-таки обнадеживающим х о т я что-нибудь такое о море, с чем она согласится; и все будет плохо у нее с ним, вернее н и ч е г о не будет, если он замолчит или скажет о другом, пусть даже о том, о чем она думает беспокойно, скажет банальнейшее и такое желанное «Я тебя люблю».
И Коновалов сказал:
— Море, говорите? Чего же это я? Забыл! Ведь за этими горами — вы, Нея, в самом деле правы — море. Настоящее море, Только не Черное…
Нея вспыхнула радостью, и он, отзываясь на эту радость, быстро-быстро стал вдруг почему-то говорить о каком-то летчике Гредове, который учил их летать в авиационных курсантах (она сразу представила его, как могла по-женски представить, в пилотской кабине — и нашла, что эта кабина вполне подходит для Коновалова). Их — это его, Коновалова, и еще Евгения Марьина, его хорошего знакомого и больше того — друга, с которым Коновалов любит ходить по этим горам, и бывает, что зараз они вместе проходили по тридцать кэмэ, чему она не очень поверила, но рассказывал Коновалов увлеченно, и ей самой захотелось пройтись не спеша горным поднебесьем рядом с Николаем Васильевичем, нет, Николаем, нет, Колей. Но вдруг она со всем ужасом и со всей ясностью увидела рядом с ним не саму себя, а ту, единственно для него дорогую и близкую, которую он во второй раз назвал за сегодня, — Л и д и е й Викторовной в первый раз, когда он что-то рассказывал о ее работе, а она прослушала, задумавшись о своем, и вот сейчас, уже на самых последних километрах, — во второй раз — просто Лидой. И выходило, что нет, не было и никогда не будет для Коновалова человека ближе, дороже и умнее, чем эта Лида, которую она тоже вслед за Коноваловым, как это ни странно, зауважала, испытывая, однако, к ней уважение большое, но неприязненное.
Мимо трех домиков проехали быстро. Теперь за гору и — все, опустевший там базарчик, Дом заезжих с невзрачными занавесочками в окнах и мотоциклами у высокого забора — конец ее пути с Коноваловым. Амен. Финал, конец лирическому отступлению. Вспомнилось резко, как он сегодня сказал серьезно ей: «Сделайте перевод. Я вам на тысячу лет буду благодарен». А она ему ответила, и, выходит, права, очень права оказалась: «Зачем на тысячу? Хоть бы на сегодня. И на этом спасибо вам».
«Лирическое отступление! — озарило ее. — Не наступленье — отступление. И от-ступ-ле-ни-е, быть может, пре-ступ-ле-ни-е», — тревожно забились, сталкиваясь слова.
Нея знала начало этого странного, волнующего состояния, и она, как бы наказывая себя за все случившееся с ней и пережитое в этот благословенный для нее день, подавила в о з н и к ш е е в ней н а ч а л о.
Стала Нея уговаривать себя уничижительно: напишет она, конечно, восторженная, экзальтированная дура, стихи, напишет еще, и хорошие стихи это будут непременно, но только почему в этом слове о т с т у п л е н и е ощущает, она не лирику возвышенную и светлую, а горечь вынужденного отхода, не бегства, а именно о т х о д а — на манер того, о котором рассказывал с застывшими слезами на глазах старый сосед, с которым они с мамой встречали Новый год, когда биндовские мандарины пригодились кстати, и все рассматривали красивую коробку с чаем из дальней экзотической страны.
Читать дальше
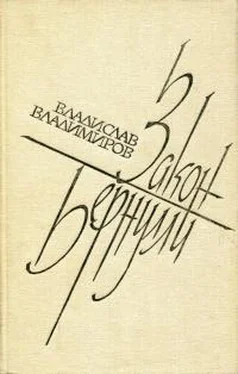

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)