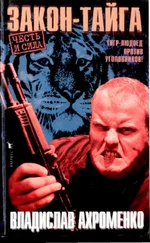— А эта штукенция — подарок матушки, она у меня всю жизнь преподавателем географии проработала. А самолетик мне ребята знакомые выточили и подарили как бывшему авиационному волку. Они еще летают, а я вот уже очки ношу да бумаги начальству кропаю и в письмах тону… Но, знаете, не скучно!..
И в подтверждение определенным жестом он как бы скинул сказанное прочь, желая заговорить о другом, наверняка о том, для ч е г о к нему пришла Нея, посмотрел на нее остуженными глазами. Темноволос, а глаза светлые — просто удивительно! Очень спокойные глаза, совсем не строгие. Однако легкая тень приятного, но уже слабо волнующего воспоминания все же скользнула с короткой радостью по открытому лицу Коновалова и сразу исчезла, как исчезает тень высокого облака над вечереющими предгорьями.
Он мог ей и не сообщать об этой штукенции, но сказал же, и она сразу о нем что-то хорошее узнала — и что мать он любит очень, и что есть у него хорошие, на всю жизнь, друзья-летчики, и что он сидит вот здесь, а сам по-прежнему тоскует по ним, хотя и уверен, что его работа не с к у ч н а я.
— Так вы от Бинды? — спросил он испытующе, но не глянул ей в глаза и вроде бы чего-то постеснялся, но сразу же справился с собой — так показалось Нее.
Она кивнула. Плащ Нея оставила внизу в пустом гардеробе и, пока шла длинным широким коридором и читала таблички с фамилиями, поняла, что по сравнению с другими, где на каждой двери было по две, по три и даже по четыре таблички, у Коновалова было большое преимущество — он один занимал большой кабинет с двумя, нет, с тремя столами. Один стол — с приставным столиком в углу — свой, а другой, длинный, обставленный с той и другой стороны стульями, обтянутыми зеленоватой материей, предназначался, очевидно, для совещаний.
— Ну тогда помогите мне, пожалуйста, разобраться с этим письмом, — Коновалов встал и поднял тонкую папку, заранее отложенную от кипы других бумаг, раскрыл ее и придержал лежащие в ней листки. Бросилось в глаза не н а ш е оформление абзацев, чудной рисунок машинописного шрифта, педантичная аккуратность строк, положенных чужой машинкой. — Тут по-английски, полторы странички чистого текста, думаю, времени много у вас не займет.
Он подошел к ней совсем близко. Коновалов был на голову выше ее. Нея заглянула снизу ему в глаза. «В постели все одного роста», — вдруг припомнилась ужасная пошлость. Лицо и ладони Неи сухо обожгло стыдным жаром. «Психичка! — обругала она себя, — Как можно?!» Нет, у него не светло-серые, а голубые глаза и не просто спокойные, а ласковые, смущенные. Она растерялась от близости и почувствовала, что цепенеет. Симпатичен был Коновалов, пожалуй, даже красив, но, как ей почудилось, чуть поигрывал в гостеприимного хозяина.
Коновалов передал ей папку-картонку, и Нея, растерявшись, увидела, как эта папка прошла мимо ее руки и застыла в воздухе, хорошо, что Коновалов не отпустил папку, иначе бы оказалась она вместе с лежащим в ней письмом на красной ковровой дорожке. Но Коновалов будто бы и не заметил ее волнения, прошагал к длинному столу, наклонившись, взял из тумбочки стопку листов и сказал так, словно знал ее десять лет, а может быть, и больше:
— Вы тогда, пожалуйста, присаживайтесь за дальний стол, располагайтесь. Вот вам бумага. Хватит? Или еще? А, может, на диктофон? Без всяких там бюрократических проволочек.
Устраиваясь за длинным столом, она сумку поставила на пол, к ножке стола, сумка еще не высохла. С нее стекали одна за другой капли, образуя на дорогом новеньком ковре блестящую лужицу. Мюллер плакал дождевыми слезами, и ей стало неудобно за Мюллера и себя. С трудом справилась она с растерянностью и спросила:
— Это как? — Хотя прекрасно знала к а к, а в памяти всплыла картина принародного посрамления Бинды в роскошном окраинном Дворце культуры — х о х м а с магнитофоном.
— Оргтехника! Проще простого! — с вдохновением объяснил Коновалов. — Диктофон у меня рядом с глобусом. Я включу, вы начитаете перевод на пленку, потом я выключу. Вот и все, пожалуй. Ни чернил, ни бумаги… А еще, — добавил он с неловкостью за правдивость того, что он решился сказать, — мне на память останется ваш голос.
Нея обомлела. Снова жарко ей стало. Она увидела, что Коновалов уже не «играет», а говорит что думает, и между сказанным им только что и тем, что он подумал и даже продумал, наверное, нет никакого барьера условностей, хитростей, недомолвок. Она ему нравится, она ему нравится! Он ей тоже. Но не надо давать повода, надо сделать официальнейший вид. А почему, собственно, надо? Может быть, как раз не н а д о? В конце концов она вовсе не пешка в руках Бинды и его хитроумных комбинациях по спасению подмоченного реноме, а возможно, и шкуры! Пусть Бинда отвечает сам за себя, а она возьмет и скажет сейчас Коновалову все начистоту, что думает об этой комбинации Бинды. Она собралась с духом и уже решилась, но что-то оборвалось в душе, и вместо того, чтобы заговорить о Бинде, Нея, прежде чем углубиться в работу, сказала:
Читать дальше
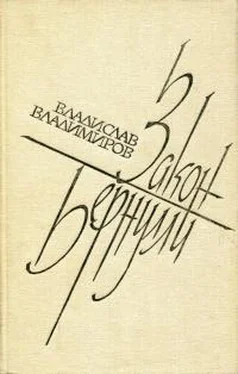

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)