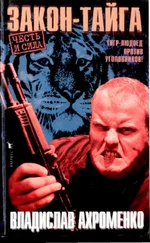Бинда опешил. Он и предположить не мог, что Нея может знать о его трамвайной эпопее, о которой он поведал только самым-самым близким людям и больше никому. Потом — он не числил себя в дураках и, не будучи таковым, прекрасно понимал, что Нея бесцеремонным приглашением взглянуть на опостылевшую ему трубу не просто озорует, а форменно издевается над ним, причем издевается абсолютно ненаказуемо. И в-третьих, что было не менее важно, чем предание полному забвению трамвайного рейса в давнее противоборство с трубой, — задуманная им по испытанным канонам Демосфена и Цезаря комбинация риторических вопросов не разыгрывалась — она размыкалась. Не такого ответа он ожидал. Он ожидал, что Нея возразит, мол, а что я тут особенного сказала, а она вопреки его ожиданиям говорит беспардонное «нет»!
Если бы она возразила — а, мол, что тут особенного, он тогда ненавязчиво, без менторства и поучений, сумел бы ответить не столько ей, сколько другу-поэту, разверстать перед ним грандиозное полотно знаков, каждый из которых свидетельствовал бы о полезности и важности деяний возглавляемого лично им б ю р о, но Нея своим «нет» шла на отступление, принять которого великодушно он не мог, потому что рушилось задуманное им микровыступление, могущее осветить его фигуру в глазах видного поэта светом особой важности.
— Почему же? — не скрыл досады Бинда, подался к окну и спешно закрыл его портьерой. — Почему же вы не считаете сказанное вами смешным?
Трубы не было видно. В кабинете потемнело.
Удлиняя фразу, Лаврентий Игнатьевич выигрывал время на обдумывание того, что он должен сказать весомого и убедительного в новой ситуации, но в ум, как назло, ничего внушительного не приглашалось.
— А-а, в самом деле, — только и мог сказать он, возвращаясь от портьеры на место с видом глубокого огорчения, вызванным будто бы внезапно раскрывшимся перед ним пороком у человека, о котором он только несколько секунд назад был самого доброго мнения. — В самом деле, ни-че-го смешного. Одна пошлость!
Он удрученно поискал рукой правый висок, страдальчески сморщившись, сильно потер его указательным пальцем, делая им круговые движения, будто втирал целебную мазь — при этом дорогие очки запрыгали на переносице, — и, не зная, как избавить себя от разочарования, Лаврентий Игнатьевич оставил в покое висок и нащупал выключатель настольной лампы.
— Это верно. И еще добавьте — подлость, — согласилась Нея грустно и сожалительно, и тут, в кабинетном затемнении, Бинда внезапно понял, что именно т а к она, эта неудавшаяся аспирантка, от которой даже муж дал деру, сельская учителка, которая если и чего умеет, так только заикаться на двух иностранных языках, под прикрытием грусти на глазах других сотрудниц и видного поэта откровенно потешается над ним, его ответственной работой и самой идеей Общества! Это ли не компрометация его лично и его служебного авторитета?!
Бинда переменился в лице.
— Милая, а я, — негромко молвил он, включая настольную лампу, склонив набок большую голову, и выдерживая краткую паузу, — а я ведь тебя и уволить могу!
Дорогие очки его грозно сверкнули.
Поэт, останавливая скандал, предостерегающе, как это делают регулировщики ГАИ, поднял руку. На безымянном пальце в зеленоватом свете лампы блеснул бриллиантом богатый перстень. Меж средним и указательным густо дымила сигарета.
«Ну зачем же так строго!» — можно было прочитать сквозь сладковатый дым в его прищуренных глазах. В бюро курили редко, и острый запах быстро сгорающей сигареты чувствовали все, даже Бинда, державший на своем столе на всякий случай тяжелую пепельницу из настоящего хрусталя, морщился от едкого дымка. Нея где-то читала, что хитрые никотиновые магнаты пропитывают табак специальным составом, чтобы сигареты сгорали побыстрее, а значит, и быстрее раскупались.
Звянькнул внизу за окном на остановке невидимый трамвай.
— Уволить? Вы? — поинтересовалась с язвительной вежливостью Нея, жалея, что Ритка Вязова и Мэм ее плохо расслышат. Она осматривала грузного Бинду в упор и, оценивающе: «Обозвать тебя, что ли, Пургамаевым или Брюхом?» Свет лампы ярко бил из-под круглого абажура, и Нея отступила на шаг, не сводя взгляда с высокого начальства и как бы изучая, чего же стоят на самом деле его вспаренный розоватый лоб, прилипшие седоватые волоски на блестящих от пота зеленых залысинах, ставших болотными в цвете только лишь из-за абажурного света, мясистый нос, брезгливо опущенные толстые губы, скошенный подбородок, под которым намечался еще один, пока не упиравшийся в узел пестро клетчатого, по моде крупно завязанного галстука, украшающе прикрывавшего меж бортами свободного покроя пиджака с накладными карманами свежайшую сорочку, тоже озелененную светом лампы. Бинду-Пургамаева опоясывал вкруг импортный ремень шириной в ладонь Ильи Муромца, округлая привлекательно-узорчатая металлическая пряжка этого ремня походила на мушкетерскую и должна была отвлекать от мыслей о несколько повышенных габаритах того, что опоясывал этот плетеный кожаный ремень. Толстые губы Лаврентия Игнатьевича, став темнее, начинали тихонько подрагивать. Выдержав небольшую паузу, Нея согласилась, отводя взгляд на портьеру:
Читать дальше
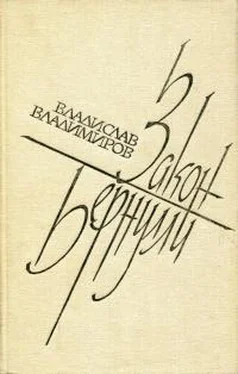

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)