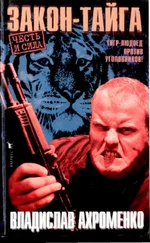Он тогда вздохнул и отвернулся, тут же наткнувшись взглядом на гранитный томб с начертанным на нем пожеланием безвестного графомана:
«Живи так, чтобы, когда ты умер, твоим знакомым стало скучно».
— Да полно терзаться, батя! Ты, наверное, подумал, человек ли о н? — угадав его мысли, тихо сказал сын и взял его мягко под локоть, чего никогда прежде не делал.
— Человек, наверное, — ответил он Косте. — Ч е л о в е к!
— Увы, — так же тихо, не повышая голоса, но окончательно веря в сказанное, отрезал сын, отпуская его локоть, — думаю, не совсем человек… Хотя… Человек! С несокрушимой, крепкой психикой. Это уж точно! И глянь, луком репчатым ее укрепляет, однокле…
— Помолчи, Костя! — попросил он его очень внятно.
Аля все слышала.
«Зачем же ты, сын, так люто и так безжалостно?» Сквозь годы, семь лет уже, шлет он ему этот мучительный вопрос.
IV
Сидела Аля рядом с шофером и беспокойно следила за движениями баранки в быстрых руках водителя, ловко угадывающих скорость и дорогу. Проскакивали светофоры, зеленый и красный свет заливал сверху ее бледный профиль и не задерживался на татуированном между большим и указательным пальцами морском якоре на правой руке чубатого, которого — о том сообщала татуировка — звали Мусой, и годом рождения Муса был тысяча девятьсот пятьдесят четвертого; значит, армию отслужил; скорее всего, был на флоте, в береговых частях, пришел работать на такси, а как новичку, ему для первости доверили старую колымагу.
«Выручай, Муса, жми, родненький!» — молча пожелав так, он снова подумал о билетах на концерт — странно о них думать, потому что Косте было плохо.
«Волга» выкатила на прямой проспект, и теперь, казалось, застыла на месте, а все остальное по бокам стремглав понеслось мимо них пестро-огненной сливавшейся лентой. У Али прахом пойдут завтра все уроки в школе, но ребятишки наверняка будут рады: построже, чем Юрке, преподавала она им английский. А Костя уже, наверное, на операционном столе, и плавится над ним электрический свет из большой чаши бестеневой лампы.
V
И действительно, операция уже шла.
У парадного подъезда клиники с плоских щербатых ступенек, сплошь усеянных ворохами нападавших кленовых листьев, к подомчавшемуся такси двинулся поджидавший их Николов. Он двинулся с незатушенной сигаретой, степенно, явно обдумывая, ч т о́ он сейчас должен говорить. Непривычно было видеть его без белого халата, но еще не хватало выскакивать в халате на улицу, когда идет операция.
Докуренную сигарету Николов щелчком точно послал в урну, тряхнул пальцами, будто освобождаясь от невидимого табачного пепла, и поправил аккуратный узел широкого модного галстука.
Низенький и плотный, он, хотя и входил в отнюдь не юный возраст и будучи обремененным немалым семейством и красивой женой, все-таки, окончательно бросив пить, стал немного щеголь. В одежде он старался не выбиваться из моды и, как оперный певец, не расставался с лакированными ботинками на чуть утолщенных каблуках. И когда зашел к нему в кабинет после корреспондента, он «взял» Райхан этими же штиблетами. И галстуком. И улыбкой. Пора бы девчонке замуж.
Дальний фонарь, скрываемый листвой, светил Николову в спину, его толстое поварское лицо тоже матово светилось из темноты и выглядело спокойным, более того, оно улыбалось; казалось, что сейчас он заговорит о футболе.
«К т о?» — спросил он у Николова одними губами, но тот понял.
«Низаров», — отвечал, как будто само собой предполагалось — только Низаров, да некому же, кроме Низарова, у Низарова легкая рука и давно не подрагивает, хотя норова и амбиции — дай боже!
Зря не сказал он позавчера журналисту о Низарове. Но подписал бы Низаров материал?..
Николов тоже взял его под руку — это что же, фатальность? — и ускоренным маршем провел по щербатым ступенькам к громадным входным дверям с очень сильной пружиной. Но частые посетители ослабили ее действие. Дальше они проскочили вестибюлем к лифту. Аля замешкалась с туфелькой. Вахтер держал наготове лифт, чтобы никто не перехватил — еще много людей толклось по этажам большого корпуса.
«Поторопитесь!» — позвал он Алю.
Света в лифте не было. Вахтер чертыхнулся, лязгнул, оставаясь на площадке, дверью — лифт дернулся, поплыл, кабина неожиданно осветилась, и в ней обнаружилось, что принятое за улыбку оказалось страдальческой гримасой, словно у Николова ныли сразу все зубы, и он безуспешно старался стереть ее в темноте, массируя лицо мясистой ладонью — было у него такое характерное движение: с усилием давил растопыренными пальцами на виски, проводил от бровей ладонь вниз, будто втирал ее в лицо до подбородка, и встряхивал потом головой.
Читать дальше
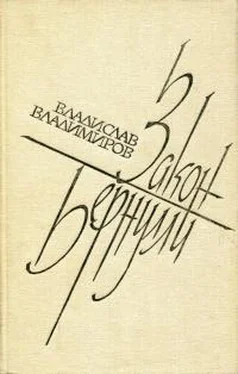

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)