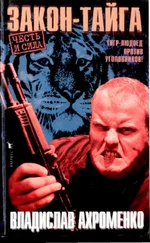Ему почудились слабые обрывки музыки — не то из автомобильного приемника, не то из настраиваемого транзистора — сквозь неясные шорохи и треск радиопомех. Чертовщина, галлюцинации странно слышать — он хорошо знал, что в операционной музыке взяться неоткуда. Это в предоперационной, если присесть на кушетку, можно слышать все, что угодно, все, что делается в смежной ординаторской, сквозь стену там переговаривались без селектора, хотя аппараты, новенькие совершенно, красовались по его личному повелению и в ординаторской, и в предоперационной.
Но за несколько кварталов от клиники, в зрительном зале, где по обыкновению и при открытой сцене не гасят люстр, действительно в этот миг плескались прозрачные хрусталинки музыки, но он не мог слышать пианиста, а только представил его и застывших в сосредоточенном молчании людей — чудачество!
А тот тип с японской камерой тоже, наверное, в первом ряду?
У пианиста своя манера исполнения, своя трактовка. В Моцарта он закладывает элементы современнейшей музыки, но от этого Моцарт не перестает быть Моцартом, однако на слух это педантов ошарашивает — тех, которые в концертный зал приходят с партитурой, чтобы сверять.
Он вдруг нашел, что музыка вызывает иногда профессиональные ассоциации, и что Кости у ж е н е т, и что прав был тот военный летчик, которого он оперировал перед самым концом войны — запомнился он и запомнилась его фамилия, она была странной — Гредов, — но сам военный был очень хорошим человеком и с ним наедине говорил о том, что в жизни этой самое главное ж и т ь, жить и чувствовать себя обязанным людям, — не часто об этом говорят вслух, а если и говорят эти слова, то знают, что только напоследок говорятся они не зря. Но Гредов выжил, хотя потом и не случалось так, чтобы увидеться им снова.
Гредов воевал еще до большой войны — в Испании. Он и там летал, на «чатос», на «курносом» — так называли испанцы советский истребитель И шестнадцатый. Но Гредов наверняка еще там и комиссарил. Хороший из него получился бы комиссар, да, собственно, он и был таким комиссаром.
«Профессор, мы с вами еще сравнительно молоды, — говорил он. — И мы борьбу за человека выиграем. Мне, конечно, больше не жить. Но я не верю в силу зла. В конце концов зло смешно. Оно подлежит осмеянию, больше осмеянию, чем сдаче на его милость. А еще — никому и никогда не надо прощать шкурности и хамства. Шкурность и хамство — первые родители фашизма. Я знаю, настоящие люди даже в час гибели дышат свежим воздухом и смотрят на солнце, но о шкуре собственной меньше всего думают…»
В один из ликующих дней новых космических торжеств, постепенно ставших привычными, увидели они с Инной в телевизионном репортаже позади группы космонавтов человека с постаревшим, но знакомым лицом. Он профессионально четко перенес его в обстановку госпитальной палаты.
Гредов?
Ухала маршевая медь, торопливый диктор бодро сыпал громкими словами, радость не загасала, но экран уже заняли осанистые люди в шляпах и осенних пальто, по виду иностранцы, у некоторых в руках кинокамеры, а когда снова показали космонавтов, то человека, похожего на Гредова, сзади них не оказалось.
Он снова увидел его через месяц в киножурнале перед чудовищной двухсерийной ахинеей, на которую его затащила Аля; увидел в кадре, запечатлевшем тот же самый момент, и понял, что не обознался. Чтобы окончательно увериться, он пошел на следующий день в кино уже без Али, потом еще и еще пошел, и снова его охватывало сомнение, когда на экране появлялись иностранцы, а Гредов исчезал безвозвратно.
Косте он о Гредове не успел рассказать. И о Вадиме Хвощеве тоже — с тем сложнейшая история произошла. Но не погиб Вадим Хвощев, и жаль, Костя не узнал. Но Михаил Иванович погиб, летчик погиб, генерал Фокин умер… Остро сожалея об этом, он снял в предоперационной марлевую маску; опустился на жесткую, обтянутую желтой клеенкой кушетку и вдруг ощутил такую отрешенную усталость, словно прожил на белом свете несколько однообразных и безразличных веков.
III
Было слышно, как за тонкой перегородкой — в ординаторской — льстивый голосок продолжал разговор:
— Еще раз извините за вторжение. Журнальчики полистал, старые, со стажем. А я, между прочим, вашему сыну привез марочку из Болгарии…
— Дочь у меня! — мило отвечала за самодельной стенкой женщина Алиным голосом.
«Юрка — дочь? Что за бред?»
Льстивый голосок соглашался немедленно:
— Ах, дочь, верно! Спутал я, извините, с Алиной Хакимовной. Это у нее сын. Расстроен — жена больна. Я час жду. У дверей столкнулся с главным, не узнал меня. Шаг каменный! На такой, знаете, скорости прошагал! Мне бы только его совет. О жене. Все же нешуточная операция… Или с Константином Петровичем лучше? А старик не обидится? Сами знаете… Но я слышал, будто он улетает не нынче завтра в Подмосковье? А надолго?
Читать дальше
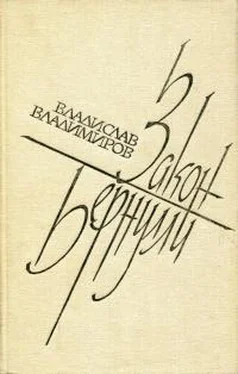

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)