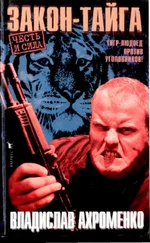На белом поле значка в красном запрещающем овале увидел Коновалов классически-завершенный силуэт. Он сразу узнал тот знакомый по стародавним учебным альбомам тревожный силуэт, теперь уже казалось, столетней давности. MAKE LOVE — умоляли буковки поверху. NOT WAR — без восклицательного знака вторили им буковки снизу. Ни точки, ни запятой:
ЛЮБИТЕ
НЕ ВОЮЙТЕ
И силуэт по центру, точнее — в самом центре.
Если бы Коновалов только знал историю этого значка, он вновь поразился бы старой истине о том, что мир так тесен, но он ничего не знал, ни о пацифистских речениях английского друга Иванова-старшего, ни о странноватой кончине этого честного человека, с которым Усманов не спорил до хрипоты, как Иванов, а был деликатен и уважителен. «Пиквик»…
А силуэт нельзя было не узнать — это был красавец «Вотур», не чета летающим утюгам вроде «Суперсейбра», «Канука», «Скорпиона», а тем паче палубным корытам «Кугуар», «Бэнши», «Катлас», «Демон»… Славный Гредов пояснял, влюбленно лаская взглядом изящные формы красавца, с интонацией, в которой мешались восхитительные нотки бесспорного признания достоинств «Вотура» и уважительно-спокойное пренебрежение ими же, и обоснованное сознание собственных возможностей, и усиленное ими абсолютное бесстрашие матерого истребителя, готового хоть сей м и г задать хищному красавцу б е н ц а — и безо всякого хвастовства причем:
«Всепогодный… Он же штурмовик. Он же легкий бомбардировщик. Квадрат почти идеальный, все по пятнадцать, легко запомнить: размах крыла — пятнадцать, длина самолета — пятнадцать с половиною, взлетный вес — пятнадцать, потолок тоже пятнадцать… Красив, змей! Но… бить можно. Пушек — две. Экипаж — д в а. Реактивных снарядов… Пулеметов? Пулеметов, ребята, нет!»
Вот какой значок был у Иванова-младшего, правильный значок.
«Бить — быть…» Игра гласных и согласных…
Коновалову захотелось тогда в благодарность за подаренное невзначай воспоминание о славном Гредове крепко обнять Иванова, но как это выглядело бы нелепо среди прочных колонн и после зондажа якобы о маршале Н е е. Лысый Корнеев, отбившийся в перерыве далеко в сторонку, обалдел бы при виде такой телячьей нежности, но ни за что не разгадал бы ее истоков.
А еще подумал Коновалов об Але — ведь он больше всего думал о ней и в горном санатории.
А ведь зря он поторопился тогда, на балконе. Черт с ними — и с этой хной и басмой, с парикмахершей и ломбардом, — надо было бы набраться терпения и дослушать — к чему они это все клонили?
V
На голое дерево полез один из мальчишек в белых кедах, его подсаживали другие. Мальчишка скользил по сырой коре, но постепенно приближался к Мурзику. Раздавались советы:
— За ноги тащи его, Генка! Чтоб в лужу не упал! Вот так! Мурзик, Мурзик!.. Генка, сам держись крепче! За шиворот его, только осторожней, а то ему может быть больно. Вот-вот-вот! Теперь отпускай его отсюдова, он сам будет держаться, не бойся! Теперь папе передай Мурзика! Вот-вот, осторожней. В-все!!!
Знакомая девочка в легком красном пальтишке стояла чуть в сторонке и участливо смотрела, как проходит операция по спасению кота. Она увидела Коновалова на балконе и счастливо улыбнулась ему. Хорошо, лучше, чем празднично, почувствовал себя Коновалов, уходя в комнату, хорошо — и от ее улыбки, и от этих соседских стараний с Мурзиком, и даже — от воспоминанья о нелепых ночных видениях.
Из кухни радио пропикало девять часов вечера. «Передаем последние известия», — торжественно-необычным голосом сказал диктор. Коновалов обрадовался. Он всегда любил этот ставший редким в последние годы голос и вообще не представлял без него жизни — своей и страны, страны и своей. «Однако», — усмехнулся снова про себя Коновалов, подумав так. Он искренне удивился, когда однажды увидел диктора вблизи — тот оказался невысокого роста, с приятным лицом, в очках, а Коновалов в мыслях представлял его плечистее и выше себя, грудь колесом, бицепсы, как у борца.
«Однако!» — повторил Коновалов, в сущности соглашаясь с этим о д н а к о. И в самом деле, сколько он себя ни помнил, всегда этот голос приходился в конечном счете к добру. Да, да, к добру, даже если и говорил он, как в далеком детстве, об оставленных нашими войсками городах, — города эти все равно были освобождены.
Диктор рассказал о новостях внутри Союза. Потом выдержал небольшую паузу. Коновалов услышал, как перед микрофоном в Москве прошелестела бумажная страница. Голос, раздавшийся следом, потвердел. Он строго оповестил страну — и от этой строгости Коновалов почему-то ясно представил себе всю необъятность Родины — о том, что в Москве проведена важная пресс-конференция для советских и иностранных корреспондентов.
Читать дальше
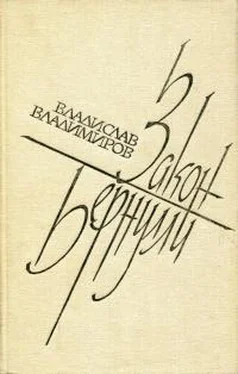

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)