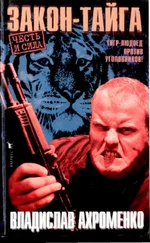Коновалов инстинктивно тронул плечо Сергея Сергеевича, тот знал эту просьбу — и поехал помедленнее. Хорошо, скоро, совсем скоро, — наверное, завтра или послезавтра, — спросит он этого Зарьянова, откуда это он после проливного дождичка катил свою тележку, а Зарьянов непременно подумает, что на него кто-то из односельчан накапал, и призадумается, разубеждать Зарьянова Коновалов не станет.
А Нея даже не посмотрела в сторону своего однофамильца, а он — Коновалов — не дурак ли форменный, коль вздумал уточнять степень родства Неи с этим отпетым типчиком. Да если бы тот был ее родным отцом, разве хуже стала в его глазах эта чудная, замечательная дивчина!
И все-таки, полагал Коновалов, не в лоб он должен был ее спрашивать «у вас есть отец?», а как-то иначе. Мучился и терзался Коновалов, обдумывая сызнова, к а к надобно спросить или уже никак не спрашивать. Обидится Нея и будет права — всякого затрапезного прощелыгу, бидонщика в буквальном смысле с большой дороги, склочника и барыгу он ей определяет в дядья или, хуже того, в родные отцы! Ведь этого зовут Ахметом, а она Ахметулаевна, раздраженно бичевал себя Коновалов, вспомнив свой пародийный сон, палача в черной маске, шпицрутены и хоккейную клюшку.
I
Мелькнула за извилистой мелководной речкой карагачевая аллея, — интересную историю об аллее слыхивал Коновалов от здешнего секретаря райкома, когда лет пять назад возили сюда больших заграничных гостей. И гости тоже были рады услышать перевод этой истории, покивали вежливо и удивленно, но кивали они уже за низким и длинным столом, накрытым цветной скатертью и уставленным никогда не виданными ими яствами.
Жаль, очень жаль все-таки, что Корнеев не повстречался им у парадного входа. Коновалов посмотрел назад — дорога была пуста.
А в этом двухэтажном доме с облупившейся по сырой весне штукатуркой и красной черепичной крышей намеревались организовать колхозный музей, но потом передумали и отдали дом под современную ветлечебницу, музей наверняка еще может подождать, а вот коровы не могут.
Сильная лошадь везла громоздкую телегу. Возница в старой накидке уронил голову на грудь и сладко спал. Голова моталась из стороны в сторону. Картина эта напомнила Карего — дедову конягу. Скупым, по рассказам отца, бережливым до скаредности был дед Трофим, каждую щепку тащил в дом отцов родитель, ничем не брезговал. Трудно в новых для них краях строились воронежские переселенцы, вразнос ругая Столыпина, насулившего златые горы. В семье побаивались молчаливого неприступного Трофима, не очень любили. Один Карий, сообразительный конь, его понимал. Ехал как-то дед летом на покос, — тут Коновалов вроде бы как наяву услышал родной голос отца, смешливый и грустный, и зримо вообразил подводу с дедом, знойный проселок, и то, как дед разморился на жаре, уснул, и то, как проснулся — стоит телега, солнце пышет в зените. Карий ногами перебирает, но ни с места, шмели и оводы жужжат, тепло от нагретого проселка вверх струится. Тряхнул дед вожжи, нукнул — не послушался коняга, только передернул всей кожей, согнал оводов с натертых боков, а сам стоит по-прежнему и на обочину глазом ведет. Глянул дед — доска уткнулась крупная в подпудренный горячей пылью ежевичный край пшеничного поля. Вот это находка! Усвоил Карий привычку хозяина подбирать все по дороге. По великой переселенческой бедности такие привычки. Смешно и грустно. А ведь никому не расскажешь. А умер дед от сыпняка, после германской…
Сколько же еще до дома Ахмета Зарьянова? С километр, не больше. И вдруг Коновалов ахнул про себя. В очищенном дождем небе неправдоподобно гигантски изгибался громадный мост радуги. Это была его первая радуга после зимы. Одним концом радуга упиралась в мокрые горы, а другим повисала над землей, как оборванная вкривь пожарная лестница. «Вечерняя радуга — быть хорошей погоде. А ежели в радуге больше красного цвета, то к ветру», — вспомнились отцовы приметы.
С противоположной стороны, на горизонте, предзакатное солнце, прикрытое с мартеновски-огненных боков разорванной грядою сизых и лиловых тучек, бордово высвечивало край неба. Дымчатые следы дождевой мороси летуче двигались в посвежевшем холодном воздухе, горная тяжесть его ощущалась почти физически, оживляя затухшие видения отроческой поры: брезентовые палатки предгорного аэродрома, траву в дождевой росе, строгую самолетную линейку, Гредова — то смеющегося, то сосредоточенного…
Читать дальше
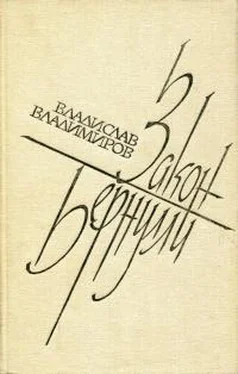

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)