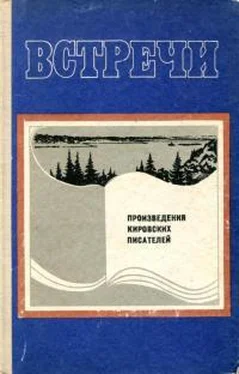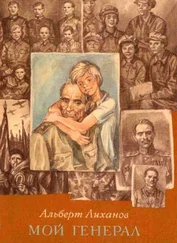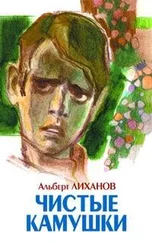Жалели, конечно, иная даже всплакнет, глядя вслед Нинке, когда она вечером тащит от магазина своего Василия и из последних сил старается удержаться на ногах, а тот, тяжело навалившись на немеющее ее плечо и ухватив одной рукой за шею, другой бьет себя в грудь и хрипло кричит, закатывая налитые кровью глаза:
— Люди! Паразит я! Пьянь проклятая! Сознаюсь и каюсь. За бутылку душу продаю… Да! Но я еще не алкоголик, не-ет. Брошу, вот завтра же — ни капли. Убей меня бог!.. Нина, ты веришь мне? Тебя люблю и дочь Светочку люблю, и больше мне никто не нужен… Если бы знала, если бы ты знала… — Рот его кривится, он скрипит зубами, всхлипывает. — Нин, скажи хоть слово. Ну, обругай, ударь — заслужил… Подлец я последний!..
Из дома — хоть и окна закрыты в такие-то благодатные летние вечера, когда только и дышать после дневной духоты, — еще доносятся его вопли, неясный шум, потом все стихает, одно окно на кухне подслеповато светится почти до утра, да изредка мелькает за занавеской тень.
— Вот ведь выпала бабе доля…
— Так ить знала, за кого шла, небось, не тянули за подол.
— Не пил же он до свадьбы-то вроде, а?
— Как же, не пил. Сколь раз домой-то на карачках приползал.
— И то. Отец его, покойный Николай Кузьмич, тоже ведь был не дурак выпить.
— Уж не говорите… Какой ни есть, а законный муж. Вот и блюди семью. А то вы, девки, нынче моду взяли: не понравился мужик, круть хвостом — и к родителям под крыло. Вот она я, принимайте обратно. А детям отец нужен. Да и так-то прокукуешь и останешься с носом, — кто опосля с обузой-то возьмет? Нынче вашего брата — пруд пруди.
— Э, тетка Антонина, как жить-то, коли семья не получилась? Не сошлись характерами — и все тут. Я бы не стала и дня с ним возиться, с пьяницей.
— Ишь ты, застрекотала, — не получилось, не сошлись характерами… А ты сойдись — не на гулянку идешь, а замуж — на всю жизнь…
Так-то посудачат и разойдутся по домам, и своих забот полон рот, а чужая душа — потемки. Раз молчит, не плачется, значит, терпимо.
А Ленька как прошел по улице в первый же день этаким фертом — в глазах зарябило от черно-белых полосок на груди, от сияющей бляхи, от синего воротничка на плечах, от лихо сбитой набекрень бескозырки с золотыми буквами и якорями на ленточках. И уже тогда не одна девка завяла от восхищения, не у одной сердчишко заколотилось с тайной надеждой.
А он отодрал доски, набитые на окнах дома крест-накрест, вымыл и вычистил внутри — воды не жалел, раз десять к колодцу сбегал. И все сам, никого на помощь не позвал. Они, Васильевы, такие — чересчур гордые: что мать, учительница Анна Федоровна, которая таблетки глотала и за грудь хваталась, а в больницу ложиться никак не хотела, да так в одночасье и померла, не дождавшись сына; что он, сын. И — зажил как-то странно, словно бы отчужденно.
Днем на заводе — сидит себе где-нибудь в углу, в брезентовой жесткой робе, с черным щитком на голове, сыплет искрами, насвистывает под нос, перекурить, отдохнуть, и то редко выходит. Ребята в получку позовут его — отмахивается, потом и приглашать перестали. Бабы изводились от догадок и домыслов: и куда он только деньги девает? Не иначе, как на книжку кладет, раз не пьет, по девкам не шастает, опять же алименты, вроде, не платит и переводы не отсылает. Но все одно — нечисто, не так что-то. И пошли разговоры…
Уйдет матрос вечером на берег пруда, сядет где-нибудь подальше под березами с книжкой, а то бродит как неприкаянный или лежит в траве, закинув руки за голову и уставясь в небо. И какие ему думы додумывать? В его-то годы. Жить бы, как все, да радоваться — семью завести, детей растить. Чего еще нужно человеку? Подступались к нему с расспросами, чаще других тетка Антонина, осторожно так, то с одного бока зайдет, го с другого. Матрос только улыбается в ответ: успеется, куда торопиться, не на пожар ведь.
Как-то вдруг объявился он на танцах в клубе. Прислонился к стенке и простоял с час неподвижно. Перед ним ребята толкутся, малолетки, которые не танцуют, а ходят сюда так, для своего удовольствия, скалятся, хихикают, рожи строят. И он-то, среднего роста, не виден из-за спин этих нынешних длинноволосых дылд, — не виден, а глаза его синие и какие-то яростные, жгучие, словно через спины светятся, как уголья из золы. Парень стал как парень: в белой рубашке, аккуратно причесанный, брюки со стрелками, из старого наряда — только полосатая тельняшка в вороте. Протолкнулась к нему Глаша Пахомова, осмелилась — и ведь ребята за ней табуном ходят, — что-то сказала, пригласила вроде, а он головой покачал и виновато улыбнулся. Отошла, пожав плечами, обидно ей стало. Вот и опять на язычок попался: непременно кто-то есть у него, а то зачем же он так поступает?
Читать дальше