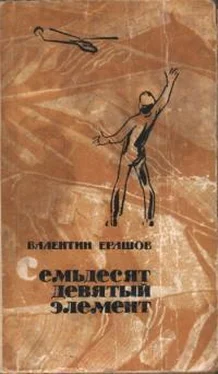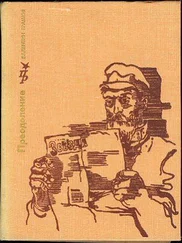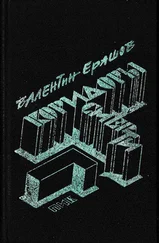— Правильно, — говорит Романцов, и не поймешь, подхватывает он мой тон или реагирует всерьез.
Романцов трет платком потную ладонь, глаза у него снулые, как у засыпающего сазана.
— Несолидно, — говорит Романцов, глядя на стенки. — Начальник партии. Руководящий работник. А развел такое.
— Несолидно, — соглашаюсь я и возношу небесам рыданье: «Ну, пусть уйдет, ну, пожалуйста, уйди, вечером опрокину персонально за твое драгоценное здоровье, только испарись».
Романцов и не думает уходить. Он осматривается.
Стены землянки оклеены обоями — роскошь! На стенах и даже потолке цветными карандашами выведены стихи, афоризмы, цитаты.
— «Есть деньги — прокути, нет денег — обойдется!» — читает Романцов твердо, чеканя слоги. — Нехорошо. Получку надо распределять разумно. И посылать семье.
— Это Беранже, — говорю я, тоскуя. — А деньги мы распределяем правильно. И посылаем престарелым родителям.
— Беранже? Не знаю такого, — говорит Романцов слегка подозрительно.
— Это ничего, — утешаю я. — У нас тетя Лида про Хаммурапи не знает. А живет.
Чувствую, что зарываюсь. Романцов смотрит, сомневаясь. Читает вслух еще:
— «И кто нас в этом может упрекнуть?». В чем именно?
— Во всем, — поясняю уныло. — Так, баловство, — успокаиваю Романцова. Тот нацеливается отогнуть лист, прикнопленный к стене. — Может, не стоит? — прошу его. — Там — дневник. Интимный. Тетрадки не было, вот и писал на стене. И это нельзя?
— Вот что. — Романцов наконец рассердился. Теперь, наверное, покричит и уйдет. — Ты начальник партии, Дымент, или ты мальчишка?
— Не знаю, — говорю искренне. — Когда как придется. Одно другому не мешает. Мне, по крайней мере.
— Несолидно, — говорит Романцов. — Учел бы.
— Я учту, товарищ парторг, — обещаю я, Романцов смягчается, он любит, когда его зовут товарищ парторг, и я жалею: слишком поздно пришла спасительная мысль.
— Молодость, — говорит Романцов. — Все такие были.
Уж не ты ли, ходячая чернильница, полная прописей!
— Возможно, — говорю я.
— Ты с какого года? — спрашивает Романцов, он явно растрогался отчего-то и настраивается на душевную беседу.
— С тридцать седьмого.
— С тридцать седьмого? — переспрашивает он.
— А что, плохо? — уточняю я.
— Да нет, ничего, — словно бы разрешает Романцов. — Год уж больно такой, знаешь.
— Знаю, — говорю я. — Веселый год. Оттого и я вырос веселый. Когда отца в тридцать восьмом замели — я смеялся в кроватке. Проявлял здоровый оптимизм.
— С тобой не поговоришь, — заявляет Романцов устало и снисходительно. — Несерьезный, человек.
— Тетя Лида тоже так думает, — говорю я. — А она у нас — знаете? Стро-огая.
Я говорю тоном Файки Никельшпоре. Что мне остается, как не озоровать, если Романцов не уходит!
— Пока, — говорит Романцов. — Ты заглядывай, коли что. И аморалок — гляди, чтоб ни-ни. Вечером Алиева подошли, побеседую, как с коммунистом. Так помни: чтоб никаких аморалок.
— Как можно, — говорю я. — Мы сознательные.
Ушел. А до вечера — еще двести верст. Может, взять у тети Лиды бутылку из вечернего фонда? Нет, не годится обижать ребят, самогон — редкость. Да если по правде— и пить неохота. Просто заведено — пить, когда плохое настроение. Будто после самогонки оно делается лучше.
Опять ложусь на койку без спинки: сетка положена на стопку ломаных кирпичей. Так у нас в каждой палатке и домике: стенки везде наклонные, кровати в полный рост не помещаются. А кроме того — экзотики ради...
Тянусь за сигаретами, вспоминаю: три штуки выкурил у меня Романцов.
До чего паскудный день.
Грибанов. Двое в одном сае, не считая собаки
Сегодня Файка попросилась в поле со мной.
Фая лишь нынче закончила техникум — с опозданием на три года, по семейным обстоятельствам, как она всем объясняет, — и сейчас, как определил Дымент, ее натаскивают, чтобы сделать настоящим геологом. Дымент не тешит себя иллюзиями относительно будущего Фаи, считая, что в геологии она человек случайный.
Когда Фая попросилась в поле со мной, я тоже не проявил восторга. Правда, никаких антипатий к Файке Никельшпоре у меня пока не обнаруживается. Недоволен я по всяким практическим соображениям: наедине с женщиной весь день в поле отнюдь не слишком удобно и приятно. Что поделаешь, однако: кому-то надо «натаскивать» Фаю в качестве геологини.
По маршрутам развозит грузовик.
Как всегда, в кузов первым забирается Мушук, пятимесячный щенок среднеазиатской овчарки, густошерстый, с еще узковатой грудью, но уже развитыми лапами, похожий мастью на выгоревшую летнюю пустыню, добродушный и компанейский парень. Сам вспрыгнуть в кузов Мушук, естественно, не может, он задолго до отправления машины садится у заднего ската и ждет, пока его подсадят. Мушук отличается развитым чувством благодарности: еще не было случая, чтобы он остался в поле не с тем, кто пособил ему.
Читать дальше