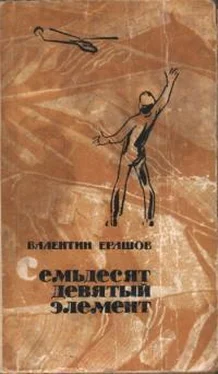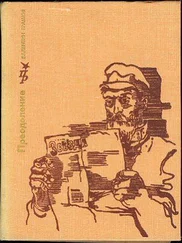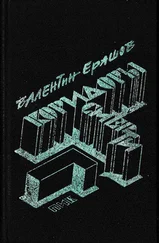— Нужда чему хочешь научит, — говорю с некоторой сентенциозностью и сам прикладываюсь к фляжке. Она сделана из брезента, вода проникает сквозь ткань, смачивает ее, испаряется, охлаждает сама себя.
— Дрыхни дальше, — говорю я Мушуку, раскрываю пикетажку и, демонстрируя Файке навыки, принимаюсь с ходу писать:
«29 августа 1964 г. Маршрут № 7 по Кара-саю. Обнажение № 7521.
В западном борту сая обнажаются окварцованные слюдисто-кварцевые песчаники светло-серого цвета, среднезернистые, массивные. Отмечены кварцевые прожилки средней частотой...»
— Видишь кварцевые про́жилки? — говорю Фае. — Подсчитай частоту. Соображаешь?
— А то нет, — Файка обижается.
Смотрю вслед и жалею, что посоветовал ей разоблачиться до трусов. Я видел Фаю больше в шароварах, в спецовке, считал ее толстой и неповоротливой, а сейчас обнаруживаю: она лишь осаниста, а вовсе не громоздка. Стройные ноги кажутся длиннее, чем они есть, потому что кофточку Фая не сняла, и верхняя половина туловища выглядит слегка кургузой.
— И мощность определи, — говорю вдогонку. Я мог бы определить сам, но я тренирую Фаю, и еще, пожалуй, я хочу, чтобы эта новая Фая была подальше от меня.
Орудую молотком, а Фая присела недалечко, я ощущаю в безветрии ее дыхание и запах ее кожи. Заставляю себя сосредоточиться, Фая сообщает данные, записываю в пикетажку:
«...3 на погонный метр, средней мощностью 5 —7 см, представленные молочно-белым, крупнокристаллическим кварцем с редкой видимой вкрапленностью сульфидов (галенит, пирит). Размеры кристаллов... »
Держу обломок кварца на ладони, отрывистым ударом раскалываю его, вытаскиваю лупу. Файка возится рядом, делает свое дело и молчит, это нравится мне: праздной болтовни во время работы не терплю, как, впрочем, и большинство геологов, привыкших захаживать площади в одиночку или с постоянным напарником, с которым все давно переговорено и нет нужды отвлекаться, тем более что на маршрутах всегда отчего-то хорошо думать, а говорить не хочется. Но сейчас мне приходит в голову, что, наверное, следовало бы поделиться с Файкой новостью, я услышал ее возле конторы, когда бегал поторопить машину: конторские любят похвастать осведомленностью.
К новости лично я отнесся вполне равнодушно: мне — все равно при сложившейся ситуации. Но было забавно глядеть на уклончивые глаза Марка и на то, как язык у него болтался чуть не снаружи, Марк прихватывал его зубами, чтобы не прорвалась до срока сенсация, Марк приберег сенсацию на вечер.
И мне сейчас захотелось выдать новость Файке — может быть, для того, чтобы ошарашить Файку и разрушить то смутное, что возникало меж нами, витая в перегретом воздухе Карая-сая. Но я подавил неправедный позыв к болтовне. Пусть сообщает Марк.
Фая орудовала угломером, диктовала данные о мощности кварца, иногда касалась плечом голого моего плеча, хотелось сказать ей: я ведь не статуя и не старец, не искушай понапрасну судьбу, но говорить это не хотелось, и мы оба делали вид, будто не замечаем коротких соприкосновений.
«Элементы залегания песчаников выдержанные, С.-В. 30, 20° ».
— Перекур, — говорю, разминая сигаретку, протягиваю пачку Фае, та отрицательно мотает головой. Валюсь на расстеленную рубаху. Сейчас Файка ляжет рядом, а это — ни к чему. Но Фая ложится поодаль, выбрав местечко, где песок чист и не колется выгоревшими остатками травы. Вижу Файкины чуть подкрашенные загаром ноги, закрываю глаза.
Но так сразу начинает клонить в сон, заставляю себя разжмуриться. Неподвижность моя обманула черепаху: успела подползти близко и сейчас, припав на плоскость панциря, смотрит усталыми двухсотлетними очами. Панцирь зеленый, будто замшелый, змеиная голова с зализанным лбом торчит из костяной рубахи. Поймать штуки три — получится отличный суп, вкуснейшая еда, не зря такую лопает разлагающаяся буржуазия. Дымент мастер его приготавливать, только вот возиться с черепахами противно, выдирать живьем из панциря. Правда, можно сунуть башкой в кастрюлю...
Вспоминаются Темкины стихи:
Очень просто: берешь черепаху за ногу,
И — в кипяток, головой вперед.
Черепаха побарахтается немного,
А потом отчего-то умрет.
И дело совсем не одной минуты
Разделать черепаху — всю, как есть,
Но самое трудное в черепашьем супе —
Это
Его съесть.
Темка — пижон, черепаший суп он уплетает, как пацан мороженое, но ради красного словца Залужный что угодно может сказать.
Мне всегда жаль черепах, разделываемых Дыментом для супа. Стоило жить на свете двести лет, чтобы покончить так бездарно. Двести лет — подумать только. Четыре человеческих поколения сменились на земле. Двести лет назад в помине еще не было Пушкина и Лермонтова, еще не совершилась Великая французская революция, шла Семилетняя война, царствовала Екатерина Вторая. Еще носили, помнится по книгам, смешные растопыренные кринолины и только входили в моду фраки. Еще не знали железных дорог и пароходов, не говоря уже о самолетах, радио, телефоне, была деревянной захолустная Москва и еще вовсе молод Петербург, а она уже существовала, не предки ее, а она сама, именно эта вот замшелая черепаха в костяной рубашке, со змеиной головой. Она, как и теперь, неторопливо и осмотрительно ползла по этой же самой пустыне, переставляла когтистые лапы, приглядывалась к варанам и хамелеонам, к торчащим из песка остаткам сожженных солнцем травинок. Она откладывала под камнями яйца и выводила смешных игрушечных черепашат, хоронилась от беркутов и тяжелого верблюжьего копыта. И двести лет назад ее опаляло солнце, она видела весною на бортах сая ослепительные маки, видела, как раскачиваются на ветру недолговечные тюльпаны, желтые и багровые, как они роняют на песок лепестки, а черепаха проползала мимо, равнодушная одинаково и к прекрасному и к безобразному. Ее зовут мудрой — словно долголетие само по себе залог мудрости, а ведь черепашьего ума хватает лишь на то, чтобы сберечь собственную жизнь...
Читать дальше