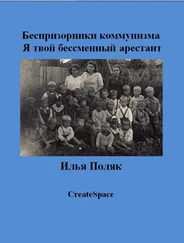За окнами посольства раздался второй выстрел, и Долфи побежал быстрее. У него страшно колотилось сердце, но он знал, что это не от страха. Он знал, что никогда больше не испугается. В нем что-то изменилось. Мадан протянул руку с револьвером. Он чувствовал удушье. И не видел цели. Ему хотелось за что-то ухватиться, чтобы не упасть; он весь задергался, нажал спуск, и раздался выстрел. «Я выстрелил, — подумал он. — Я умею стрелять! О, теперь я многих перестреляю. Вот один, кажется, упал. Теперь скорее туда. Вот я прорвусь к остальным и…» Он рухнул на тротуар.
Ваня видел, как упал наземь Долфи, а рядом упал кто-то толстый в сером. И еще один человек все видел и слышал — священник англиканской церкви, который брел по Каля Викторией и все еще не мог справиться со своими воспоминаниями. Когда Ваня подбежал, тот, в сером, еще бился на тротуаре. Ваня направил на него фонарик и увидел сине-багровое лицо, искаженное предсмертной судорогой. Долфи лежал на спине совершенно неподвижный. Лицо у него было бледно и спокойно.
За окнами посольства метались какие-то тени. Во дворе, за железной оградой, забегали солдаты из румынской охраны. Ваня стоял на коленях на мостовой, над трупом товарища. Рядом стоял человек в черном. Священник узнал своего бывшего товарища и подумал: снова оживают призраки прошлого? Но Долфи лежал мертвый, на призрак был похож он сам. Черная тень священника падала на убитого. Над затемненным городом повисло черное небо.
В тот же час, в пяти минутах ходьбы от немецкого посольства, человек в темном рваном костюме и белых парусиновых туфлях с засохшей грязью подошел к железным воротам двухэтажного особняка. Ворота были заперты. Рядом, у открытой калитки, стоял стражник, высокий человек с висячими усами и автоматом на груди. Человек, который подошел к воротам, показал какую-то бумажку, тот посветил на нее карманным фонариком и сказал: «Проходите, товарищ, в первый подъезд». В подъезде было темно; когда массивная дверь с железной решеткой в виде листьев открылась, сноп света ударил в лицо вновь прибывшему, и он очутился в ярко освещенном холле. Первое, что он увидел, было собственное отражение в зеркале. Он критически посмотрел на страшно худого человека в обтрепанном костюме, и мгновенная озорная улыбка осветила его изможденное, заросшее щетиной лицо.
«Ты не похорошел, — сказал он себе, — но здесь тебя примут и таким. Наконец-то ты дома. Здравствуй!..»
«А дом у тебя шикарный, — подумал он, остановившись в нерешительности посреди холла. — Неделю тому назад ты и во сне ничего подобного не видел…»
Дом представлял собою переделанный под учреждение особняк, в котором следы былой роскоши — лепной потолок, паркет с квадратными фигурами и раззолоченные зеркала — терялись в приметах нового быта: на дверях висели бумажки с написанными от руки названиями отделов, коридоры были загромождены конторками и канцелярской мебелью. В доме царила атмосфера работающего на полном ходу учреждения, хлопали двери, стучали машинки, слышались голоса, а он стоял посреди холла ошеломленный и растерянный, пока к нему не подошел молодой человек в спортивной куртке на молнии и покровительственно не спросил:
— Вам кого, товарищ? Отдел кадров Центрального Комитета помещается на втором этаже.
«Почему у тебя сердце стучит громче трамвая? — спросил он себя, подымаясь по деревянной лестнице с резными перилами на второй этаж. — «Отдел кадров Центрального Комитета помещается на втором этаже». Вот второй этаж. Все очень просто, товарищ, — ты в Цека…»
Он был членом Цека, и, разглядывая теперь карточки на дверях с написанными второпях названиями: «Массовые организации», «Технический отдел», «Агитпроп», он вспоминал о том, как было в Дофтане, где он узнал впервые, что его кооптировали в Цека. Он сидел тогда в штрафной секции «Аш», в двухметровой камере — два метра в длину, два в ширину и высоту, пол цементный, потолок железный, вместо окна зарешеченная форточка, над дверью «визета». Он вспомнил крик «Руку к визете — проверка» и свисток старшего стражника; старший разговаривал с заключенными секции «Аш» только при помощи свистка. Он вспомнил скрежет открывающейся двери, которая имела железную штангу и открывалась два раза в сутки: в первый раз — для выноса параши, на это уходила одна минута; во второй раз — для обыска, на что уходило пять минут. Дверь стояла открытой целых пять минут, и он не отрываясь смотрел в коридор. Когда он видел тоненькую полоску солнечного света, он представлял себе залитую солнцем долину Праховы — она текла в ста метрах от тюремных стен, фиолетовую дымку над вершинами Карпат, — и у него начинала кружиться голова. Теперь он видел коридор, матовые электрические лампочки, привинченные к потолку, объявления, написанные чернилами на белых листах бумаги, прикрепленных кнопками к дверям, и у него тоже кружилась голова.
Читать дальше