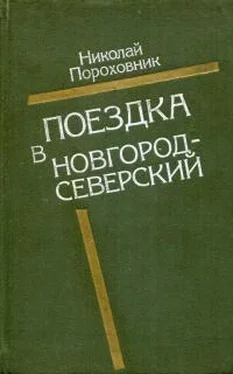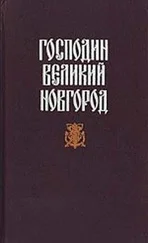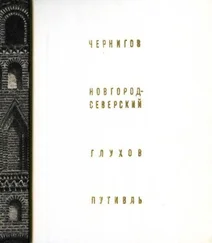А между тем шум, который был возле вагона, уже несся из тамбура. И вот по проходу затопали, заговорили, торопливо разыскивая свободные места. Из-за перегородки купе выглянула та самая женщина в цветастом платке, которую я видел в окне, быстро поставила корзину на полку рядом со мной и, уже не сходя с места, стала звать своего Федора. Наконец тот появился, невысокого роста, в сапогах и старенькой армейской гимнастерке, невозмутимый, худой, с пронзительными голубыми глазами, на которые нависли белые брови. Он неторопливо поставил свой груз на пол, молча сел рядом с женой. Поезд давно уже набрал ход, а она тараторила все об одном и том же, не замечая, что платок ее сбился на плечи:
— Так я все кричу, кричу тебе, зову: «Сюды, Хведор, сюды!», и где ж ты там бродил, я тебе кричу, какой ты все-таки непутевый, зову…
Федор терпеливо молчал, но вдруг встрепенулся, зыркнул на нее и неожиданным фальцетом выпалил:
— От винта!
Женщина мгновенно смолкла. Я отвернулся к окну, не в силах сдержать улыбку. И почему-то сразу вспомнился Данила Прокопыч, в молодости, как говорили, озорник на всю деревню, но и с возрастом сохранивший свой веселый нрав, хотя, когда подпивал, становился важным и серьезным. Именно таким он был на каком-то вечере, стоял в дверях клуба, круглый, как тугой мешок, в хромовых сапогах, в сдвинутой набок фуражке, из-под которой выбивались завитки волос, нависая над упругими красными щеками, и пропускал в яркий шумный зал. А мы, подростки, столпились на крыльце, освещенном одной лампочкой, отчего темень на улице казалась еще гуще, мы смотрим в зал, где уже танцуют наши девушки с парнями постарше, и в наших глазах была такая мольба, что он изредка пропускал и кого-то из нас, поднимая при этом указательный палец, и, наклоняя его либо в зал, либо на улицу, важно произносил:
— Кто чувствует — сюды! Кто не чувствует, — указывал на улицу, — туды!
Мы все — чувствовали…
И, как бывает, одно воспоминание вызвало другое, и откуда-то из глубины памяти потянулось прошлое, далекое… Я задумался, перестал понимать, где я, кто я, а затихший ночной вагон укачивал, убаюкивал…
Хрипели кони. По небу разлилась кровавая заря, червонные щиты, которыми огородилась дружина, отражали ее свет, и вся степь покраснела. С диким криком неслись, приближались половцы, хрипели кони. «Остановитесь! — закричал я. — Остановитесь! Что вы делаете?!» И единый крик стих, А потом только звякали, высекая искры, мечи, не выдерживали, разваливались под страшными ударами шлемы; вскрики, стоны, рубанули по шее лошади, упала голова, но еще дергались ноги, ткнулся в землю всадник, и тут же его перерубили пополам; все — месиво, и стонала, вопила, звенела степь, ярость тысяч людей слилась в одну страшную, звериную ярость, и во всех глазах плескалась ярость, а глаза были в глаза, лицо в лицо, и, падая, давили друг друга руками — ни топор выхватить, ни нож, — и тот, кто прикончил другого, вскакивал, хватая что под руку попадется, то ли меч чужой, то ли копье, чтобы разрубить, проткнуть еще одного, не замечая, что руки окровавлены и одежда была в крови, и по земле уже текла кровь, ибо степь напилась ее; топтались по головам, по кускам тел, а я снова закричал изо всех сил: «Опомнитесь! Ваши потомки будут братья, опомнитесь!!» Но хрипели кони, лязгали мечи, в горле пересохло, и я открыл глаза…
Медленно пришел в себя… Все спали, кто-то на верхней полке звучно храпел. Стучали колеса, было душно. Затекла нога, ломило все тело, а в горле застрял сладковатый комок. Соседка спала, прислонившись к своему Федору, который тихонько посапывал во сне… Вдруг я почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Раскрыл пошире тяжелые, набрякшие веки: на меня смотрел старик с пушистой бородкой, смотрел участливо, с некой жалостью.
— Что, сон плохой, наверно, снился? — сказал он. — Кому-то ты все кричал: «Опомнитесь».
— Кричал… — вяло буркнул я. И, приподнимаясь, чтобы пойти прополоскать горло, невольно добавил: — Людям кричал.
— Людям? — переспросил старик. — Хм. Гордости в тебе слишком много, сынок. Да-а…
Я опустился на лавку, потер тяжелый затылок. Слова старика задели меня; никому не приятно, когда словом, как иглой, достают до самой глубины души.
— Почему вы так… определили? — хмуро спросил я.
— Определил… Нельзя, милый, всех сразу просить-призывать. Каждый тогда думает, что не ему говорят, да-а… Слова задушевные, они ведь тихие. А гордыня, вот она-то и кричит, и гремит… «Постучите тихо, и отворят вам», — сказано, да-а…
Читать дальше