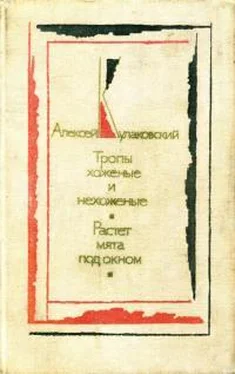— Ты понимаешь, что это такое?.. Понимаешь? За халатное отношение — расстрел! Такой закон! Я подписку дал!
— Так меня б и расстреляли, а не тебя, — спокойно заметил Богдан. — Я ведь сказал бы, что сам взял. Не побоялся б.
— И тебя и меня! Понимаешь!
Пантя подошел к кровати с откинутым к самой стене одеялом, сел, поставил карабин рядом и начал натягивать сапоги. Богдан только теперь заметил, что они уже изрядно подношенные и не ремонтировались, может, с первого года службы в пожарной команде: каблуки сбиты набок, носы стерты, голенища и поднаряды потрескались. Щетку с гуталином эта пожарницкая обувь тоже, видимо, не часто видела: аккуратностью Пантя не отличался с малолетства, а теперь, наверно, вовсе опустился.
«Не очень расщедрились твои хозяева, дав только эту шапку, которую как наденешь, так на черта становишься похожим. Даже сапог или ботинок не дали».
Отец невольно подумал об этом, но не сказал, так как неожиданно возникло что-то более важное и тревожное. Теперь он хорошо видел и понимал, что сын все время держит шею, как жердь, торчмя. И это не ради какого-то полицейского форсу, как подумалось во время завтрака, а совсем по другой причине. Не только торчком, но и немного набок. Сначала с ужасом представилось, а потом начала одерживать верх мысль о том, что это и не воображение, а неизбежное несчастье — стать сыну вечным калекой, всю жизнь горевать, страдать, не чувствовать себя равным среди людей. Если б хоть доброту сюда, совесть, чуткость и ласковость. А если и этого ничего не будет?.. Зачем тогда родиться такому?.. Как жить тому отцу, у которого вырос такой сын?..
Неудержимая жалость и страдание до слез, до отчаяния овладели Богданом, даже в глазах начало пестреть и желтеть, страшная обида горьким комом подкатывала к горлу и сжимала дыхание. Он сел на кровать, рядом с сыном, и, всей своей волей и собранностью заставив себя немного успокоиться, заговорил:
— Болит у тебя… это самое… шея. Вижу я. И сам ты жалуешься. Неудачливым ты и был, а теперь, должно быть, еще хуже… Зачем тебе все то, во что ты полез? Ни тебе, моему сыну, одному-единственному, ни мне, твоему отцу, этого не надо. Лечиться тебе надо, а мне — докторов тебе искать. Пока еще никто не видел вот этого, — старик кивнул на оружие, а потом поднял глаза на полицейскую шапку, — и люди нас не осрамили, не прокляли, возьми ты и отнеси это сам, отдай, у кого брал. Скажи, что больной ты, инвалид, и не можешь быть на этой ихней службе… Лечиться тебе надо… И пускай проверят, если хотят!..
Пантя молчал — видно, сильная резь в затылке обеспокоила и несколько смягчила его. Однако сразу же стал, как мог, покручивать головой и отрицательно качать пальцем, как только отец заговорил про оружие.
— А оно и правда, что, может, без ружья лучше, — вставила и Бычиха. — Люди не будут бояться заходить к нам. Надо же, чтоб заходили, если вот и дрожжи есть, и…
— Об этом уже не может быть и речи, — уверенно сказал Пантя. — Подписку я дал, а это — присяга. И не говорите мне больше о таких вещах, а то можем погибнуть все. Вы еще не знаете, кто это такие немцы и какая это сила — Гитлер. Всю Европу занял и перешел!..
Парень задумался, опустил глаза, хотя голову держал прямо. Должно быть, и его в этот момент потянуло на откровенность, хотя и очень скупую.
— Вдумайтесь, поймите, — наконец заговорил он снова, обращаясь будто не только к отцу, но и к матери. — Я тоже должен заботиться о своем месте в жизни. А на что я пригоден? Ни на что. Ни науки вы мне хорошей не дали, ни ремесла, ни… здоровья. Вот, может, еще и калекой стану. Что мне такое придумать, учинить, чтоб не сидеть у вас на шее? Особенно теперь. Сушкевичева золота больше нет, делать ничего не умею…
— Так достань аппаратик, — посоветовала Бычиха. — И будем мы тут с тобой…
— Нет, это ты уж сама! — постепенно озлобляясь, сказал Пантя. — Я займусь другим!
— Но без ружья, правда? — не отступала мать. — Ну, будь ты этим самым… членом или как его?.. Старостой… Вон, слышала я, Роман туда лезет… Так лучше — ты! А ружье ему и отдай — все же свои.
— Ружье будет при мне! — уже почти закричал Пантя, и Бычиха умолкла. — По твоей милости я чересчур «славненьким» тут был!.. Такой «сла-авненький» да «важный», что порой люди отворачивались от меня. Даже и до Бобруйска такая слава дошла! Так вот я теперь этим, — он взял в руки карабин, — заставлю некоторых посмотреть на меня иначе. Пускай знают, что того, с собачьей славой Бычка, больше нет… Нет и не будет!
Читать дальше