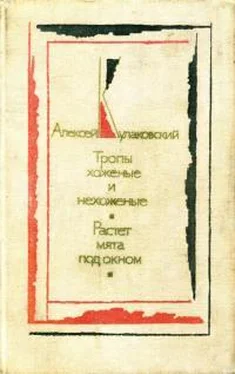Добра он уже не ждал, но хотел знать правду, убедиться во всем услышанном своими ушами, увиденном своими глазами.
— Мы — это я! — громко и уверенно сказал Пантя. Важно повернулся к подоконнику и показал на свою шапку. — И еще некоторые люди, которые со мной… Моли господа бога, мать… Ой, что это я!.. Крепковата, холера!.. — погладил пальцами пустую бутылку. — Моли господа бога, что у тебя такой сын!.. Заступился, выручил… А то б качался ты где-нибудь на перекладине за такое бригадирство!.. Правда, все это, может, идти и в дело… Но не ради того дела ты стараешься?
— Для какого ж это мне стараться?
— Такого, что новой власти нужно.
— Так ты, значит?! — Богдан отодвинулся от стола, повернулся к сыну лицом.
— А ты что? Только теперь догадался, сообразил? Я думаю, чего это ты все поглядываешь на меня то как на черта, то как на святого ангела?
— Так кто ж ты такой? Это самое…
— Представитель новой власти! Полицейский! Слышал о таких? При царе были, но я не такой! Я — только название, как при царе, а на самом деле — начальник! И теперь тут, в Арабиновке, и в соседних поселках никаких ни бригадиров, ни председателей, а тем более никаких коммунистов или комсомольцев не будет! Вся власть — моя! Кто «за»?.. Кто «против»?.. Ой!.. К черту! Кто будет против, того… — показал на порог, где стоял карабин. — Мне еще помощник нужен — по хатам бегать, выполнять, что скажу. Член сельсовета будто, только без никаких выборов, голосования. Теперь это будет называться — староста. Может, ты хочешь? Могу закинуть слово. Заодно и вину свою уменьшишь перед новой властью.
— Значит… это самое… — чуть не со стоном произнес Богдан, — сын продажный, так чтоб еще и батька?.. Не слишком ли много будет — два выродка на одну хату?
— Ты не ругайся! — без особой обиды сказал Пантя. — Ты лучше подумай, о чем говорю. Кто сам себе враг? Скажи: что ты имел на своем веку? Скрипочку приобрел, и то без футляра… А что сам сделал, так на гроб похоже. Вот и носил свой век по хатам этот гроб… А тут надел дадут, коня-а. Со своей собственной землею будем и с конем. Корову тоже дадут, а нет — сами возьмем. Вдвоем будем, так и надел двойной… И двое коней. Чтоб и на выезд…
При этом их разговоре зашла Бычиха, остановилась, будто не желая вслушиваться в мужской разговор, однако уши наставила и, когда подошла к столу, как бы шутливо спросила:
— А женщин не берут там в какие-нибудь начальники?
Пантя выхватил из ее рук вторую бутылку, а на вопрос не ответил. Налил в кружку и с ходу выпил. Пока доедал яичницу, Богдан сидел молча, с болючей жалостью глядел на сына и думал: «Неужели это не сон, неужели такая судьба постигла на старости лет?»
За столом сидел сын, единственный сын, — самое дорогое на всем белом свете… И будто не сын теперь это, а кто-то чужой, далекий и враждебный. В отдельные моменты казалось, что этот охмелевший юноша даже видом не похож на сына: и сидит не так, как прежде, и ест не так, и шею держит как-то по-волчьи — почему-то излишне вытянута, столбом. А пьет! Не глотает, а просто льет в горло, запрокинув голову и жадно оттопырив ковшом нижнюю губу.
…Когда-то, будучи подростком, Пантя побаивался даже запаха спиртного. Случилось это после того, как Никон Лепетун, заведя парня в свою каморку, дал ему глотнуть керосина. Объяснил потом Богдану, что сделал это не умышленно, а случайно перепутал в темноте бутылки. Как попала бутылка с керосином в то место, где стояла его самогонка, он будто бы и сам не мог уразуметь: наверно, мать подставила, чтоб его самого отвадить от пьянства.
Когда же заходил разговор об этом с другими, то Никон хвалился, что подсунул Бычку (как иногда звали Пантю) бутылку с керосином заведомо, чтоб подтравить немного и отучить лазить куда не надо.
Некоторое время спустя пришли в Арабиновку парни из Залесья. Они часто приходили сюда на вечеринку, благо было недалеко. Но была и еще одна причина — там почему-то не очень приживались девчата: как только которая оперялась, так и улетала в город. Хоть улицы подметать, лишь бы не дома.
Залесчане всегда приносили с собой бутылку водки и прятали ее под часовней. В разгар вечеринки они выходили на улицу, будто прогуляться, выпивали свой потайной запас и возвращались уже не такими, как были: не в меру говорливые, задиристые и до того уж развеселые да забияцкие, что будто и сам черт им не пара. Однако же почти совсем не пьяные, так как напиваться скупость не дозволяла. В Арабиновке кто-то подсмотрел, как они выпивали одну бутылочку на восьмерых. И пошли после этого шутки-прибаутки, а позднее даже и насмешливые, оскорбительные: «Пьют, как залесчане: четвертинку на восьмерых».
Читать дальше