Пусть пухом будет ему земля.
И мы согласно подымаем стаканы. Мы — это простой советский заключенный Володька Цыган. Заключенный на самом деле. А цыган — сомнительный. Скорее всего, такой же он, как и я, белорус. Хотя, может, и не такой, кто, кроме его матери, это знает. А отца у него не было. По крайней мере, мы его не видели. Мог быть его отец и цыганом. Сам же он цыган с нашего детства, которое не знало, да и не признавало имен, шло в жизнь с кличкой. Володька, на свою беду или радость, смуглый и непоседливый, на одном месте не успокоится, пока шесть дырок не прокрутит.
Будто специально вчера под похороны друга покинул родные стены тюрьмы. После похорон сядет, наверное, опять. Хорошо, если продержится этот вечер, а наутро успеет опохмелиться. Кому тюрьма, кому мать родна. Такому на лбу написано: вечный арестант. Последний раз сидел за стеклотару — за пустые бутылки. Утащил из погреба Дубашихи и еще у кого-то: разламывалась голова, поправил на два года. Тюрьме всегда искренне рад. Там он человек, приходит в себя, просыхает от пьянок. Тюрьма тоже рада ему. Мужик он работящий и не шебутной. А в свое время Володька Цыган был правой рукой Данилюка.
Юрочка Протуберанец. Солнечное прозвище.
— Во, хлопцы, глядите, глядите. Это же протуберанцы. Протуберанцы на солнце. Как бы не рвануло. Как бы не пошло мелкими осколками наше солнце.
Любил солнце. С рассвета и до заката пас на небе то солнце. Вечно коптил на костерке стеклышки, чтобы сподручнее было следить за солнцем. Сегодня коптит колбасу и следит, чтобы вовремя открывался винный отдел в магазине. Простой советский работяга. Хотя и не такой уже и простой. Совсем не простой. В отличие от Цыгана никогда не сидел, но тюрьма по нему, ох, как давно уже тоскует, плачет. Заждалась его тюрьма. Только он никогда не сядет. Потому что, как говорят, он вор в законе. Сажать его Никак нельзя. Боец мясокомбината. Нет, не тот боец, что при погонах и с ружьем на страже и охране, как некогда был на страже и охране солнца. А тот, что бьет на мясокомбинате скотину, из убойного цеха. Вот потому и сажать нельзя. Кто работу справлять будет? Не мы же с вами. Его законное место не на скамейке подсудимых, а на Доске почета, где он и находится.
Юрочка Протуберанец и организовал нам этот царский стол на берегу копанки. И второй стол там, в хате Данилюка, он тоже организовал. Никто другой не смог бы организовать.
Я, стыдно и признаваться, учитель. Что это Такое в наши дни в моей родной Белоруссии, разъяснять не буду, каждый знает сам. Скажу только, что половина учителей, с которыми я сеял после пединститута в школе разумное, доброе, вечное, перешли сегодня на другую ниву, добывают себе хлеб с маслом на мясокомбинате. При моей зарплате и нынешнем дефиците я не смог бы выставить и бутылки чернил в прямом и переносном смысле.
Фимка Бухман — профсоюзный бог нашего депо. Гол, как и положено более-менее честному младшему подручному бога. Но как любой профсоюзный бог наших Дней, он все же может человека похоронить. Чего-чего, а этого у него не отнимешь. При жизни почти пустое место, а как погребальная команда незаменим. Правда, опять же не зримо-грубо — рублем и продуктами, а больше увеселением: бесплатной квартирой на тот свет, оркестром, венками и напутственной речью. «Спи спокойно, наш товарищ и брат, а мы уж тут за тебя...» И сегодня Фимку хватило только на гроб, венки, ленты и оркестр. Протуберанец же среди бела дня, не прячась, на машине вывез из мясокомбината чуть не половину спецхолодильника.
— Что я им, фраер? Не могу взять на поминки лучшему другу у того парня дичи — лосятины, соломки.
Вино тоже завезли по его кивку, машиной, с консервной базы, в трехлитровых стеклянных банках. Вино местного производства, мерзопакостное, мальвазия, одним словом. Но краденому коню тоже в зубы не глядят. Закусываем зато по-царски, вернее, по-министерски, как те парни. Первый раз в жизни, и то на поминках, ем копченую, вяленую и запеченную дичь. Соломку жру, хоть и мальвазию пью. Жизнь прожил, а думать не думал, что на свете есть такая вкуснятина. Неприлично так жрать, поминки все же, но припал и отпасть не могу. На своем горьком опыте начинаю теперь понимать, что такое кормушка и почему от нее тех, кто уже с ногами в той кормушке, за уши не оттянуть. Свинья она и есть свинья. Грешен человек, грешен и слаб. Тут бы и в рот ничего не должно лезть, кусок поперек горла должен становиться, драть горло, а я присосался и наяриваю, только нос вприсядку идет. И прочь, прочь все доброе, разумное, вечное. Вам — доброе, разумное, вечное, а мне — телятинки, мне — севрюжки с хреном.
Читать дальше

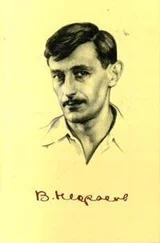


![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)


