Виктор Козько - Но Пасаран
Здесь есть возможность читать онлайн «Виктор Козько - Но Пасаран» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 0101, Жанр: Советская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Но Пасаран
- Автор:
- Жанр:
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Но Пасаран: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Но Пасаран»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Но Пасаран — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Но Пасаран», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
И мы готовы были взяться за оружие. По родному городу уже нельзя было пройти, чтобы тебе не набили морду. В родном городе нельзя ступить на землю, чтобы тебя в самом тихом и мирном переулке не перевстретили и не излупили городские. Но просто еще излупили — это полбеды. Просто так нас толкут десять раз на день. Мы к этому уже привыкли, свыклись и с болью. Поболит, поболит и перестанет, пока жениться — загоится. Страшно, когда стыдно и вспомнить, как над тобой издевались перед тем, как расквасить нос, пустить кровянку, фашисты проклятые. И пожаловаться ведь некому.
Меня городские подловили, правда, на бойком месте, на их законной территории. В самом своем логове, на перекрестке улиц Советская, Ленина и Интернациональная. Сам виноват, нечего было соваться туда. Но очень уж надо было. В библиотеку. У них ведь, в городе, есть библиотека, а у нас, застанционных марсиан, нет. Грамотей несчастный, читал бы букварь, давил мух, копался в носу, цел бы остался. А тут Павликом Морозовым решил заделаться. Гоголя возжелал, Коласа. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «На росстанях». Вот сейчас на этих росстанях, на углу трех улиц будут тебе вечера, Павлик Морозов.
Окружили, обложили со всех сторон, как волки коня, и стоят молча, знают, что никуда от них не уйду. И я стою, молчу, жду, что будет, думаю, как книжки казенные спасти, а не то ведь мне еще и дома воздастся. У отца ремень всегда близко и горяч. Поражаюсь, как они меня углядели, как высчитали, что я не их, по запаху, что ли? Может, на самом деле все мы, станционные, пахнем по-другому? Они же такие, кай и мы. На двух ногах, и неправда, что все сплошь в ботинках, есть и босые. Большинство босиком. Ноги а коросте и сорочки с поддувом, в прорехах, и та же нехватка пуговиц. Главный, правда, в сандалетах и сорочке не драной. Яблоко ест. По этому яблоку я и признал, что он у них заглавный. Ест, сок капает, мутный и прямо на подбородок. А он и не вытирает. Доел — огрызок на песок, мне под ноги. Ладный такой огрызок, было что еще укусить.
— Поднимай и ешь теперь ты.
Фашист несчастный. Я бы тот огрызок и сам поднял и съел. Поднял и съел бы. Но сам. Оглянулся б только, никто не видит, теранул о штаны — и в рот. Я еще спелого яблока ни одного не съел. Но чтоб меня заставляли есть да еще после этого фашиста сопливого. Я же своими глазами только что видел, как он ел, как сок катился. И сейчас еще вся борода в том соке. Нет и нет, тут я брезгливый.
— Убейте на месте, а есть не буду.
Они меня за лохмы, за вихор-колтун и мордой в песок, в тот самый сопливый огрызок.
— Будешь, падла, жрать.
— Ни за какие деньги на свете.
— А денег никто тебе и не думает давать. Бесплатно будешь лопать, просто так. За спасибо.
— Не рвите сорочку. Она у меня последняя.
Голый голого душит и кричит: рубашку не порви, так и я. А под сорочкой у меня, за пазухой книжки ведь. И слышу уже я, как обложки трещат, страницы голое тело облепляют, прямо в тело буковки впиваются. Крупно так, на всю жизнь значат и «Павлик Морозов», и гоголевские «Вечера», и коласовские «Росстани». Хорошие книжки, а главное, еще не читанные мною. Я только- только принюхался к ним сегодня. Хотя давно знаю, про что в тех книжках. Там вся жизнь наша, все наши вечера бредовые, в какие мы пересказываем друг другу разные диковины, что на свете есть. Пересказываем, жутко добавляя от себя. А здесь же, за пазухой у меня в этих книжках голая правда. Я хочу докопаться до голой правды. Но правда в казенных книжках. И это сейчас самая большая беда.
Сволочи эти книжки. Всю жизнь они кому-то мешают. Как арестанту, скрутили мне руки, словно коню, спутали ноги. Без этих Гоголей. Коласов и Морозовых я был бы вольным, что ветер. Ноги в руки и гопца-драла ла-та-та. И схватиться мог с любым, кто на дороге встал, мог бы кому-нибудь другому сорочку до самого пупа располосовать. А с книжками могу только кричать:
— Не рвите сорочку. Она последняя у меня.
— Рот, падла, порвем. Жри огрызок, кошкоед. Вот тебе яблочко налив? ное, мазутник.
И яблоко то мне в пасть заталкиваю!. Грязные свои пальцы в рот толкают. Откуда я знаю, что они теми пальцами пять минут назад делали.
Меня сразу же рвать начало. И такая жалость, что автомата нету, ножика даже паршивого нету. Один бы завалящий на четверых автоматик. Мне лучше бы, чем эти книжки, дали бы в библиотеке автоматик. Я бы за всех четверых рассчитался. Я бы заставил всех любить и уважать Гоголя, Коласа, Павлика Морозова. Себя заставил бы любить и уважать.
Где же ты сейчас, юный герой Павлик Морозов, который не испугался восстать против родного отца? Где ты, могучий Тарас Бульба, который за волю и свободу положил, пристрелил, что собаку, свое родное, кровное дитя? Где ты, добрый сельский наставник Лобанович, который ради той же воли и свободы бросил любимую? Заступитесь же и за меня, защитите и мою волю и свободу. Это же и вам под ноги в уличную пыль брошено яблоко раздора и войны. И не яблоко даже, а недогрызок слюнявый. И вы вместе со мной сейчас будете его жрать. Так заступитесь хоть сами за себя, благороднейшие из благороднейших, смелые из смелых. Постойте за себя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Но Пасаран»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Но Пасаран» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Но Пасаран» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

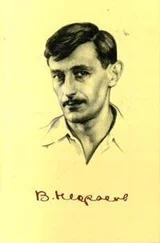


![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)


