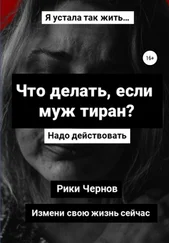Василий Васильевич поерзал в кресле, Искоса взглянул на рукопись, развернутую перед редактором:
— Пишешь или правишь?
— Психую, — честно признался Валерий. — Раньше как-то не чувствовал вот этого… раздражения, что ли, если что-нибудь округлое в номер давал. Было б грамотно! А теперь зло берет: зачем сочиняют? Зачем небо коптят? Сплошная растрата времени и типографской краски…
— Вот и я… не чувствовал. — Романов горестно ссутулился, сжав острыми коленями сцепленные кисти рук. — Притчу сочинил. Может, обработаешь?
— Смотря какую, — улыбнулся Игашов. — Жизнеутверждающую — могу. А если о бренности всего живого, о фатальности, обреченности, то это не наш жанр… Это оставь апологетам идеализма и мракобесия, то бишь поповщины.

— Вот послушай: жил да был один маленький человек. Маленький в смысле роста, длины, а какая у него была душа — большая или такая же, по росту, — он просто не знал. Не задумывался об этом. И всем-то он завидовал. Увидит на стадионе баскетболистов — завидует: и я бы мог, как они!.. Увидит красивую девушку — а они сейчас все акселератки, ты же знаешь, — и опять грустит: могла бы полюбить меня, будь я выше ее хоть на полголовы… Завидовал он, завидовал — и выпал ему случай: приходит к нему волшебник… Ну, может, и не совсем волшебник, а химик какой-нибудь. Лобастый, в толстых очках… И говорит: знаю про твою беду. На, возьми эту пилюлю — и никому больше не завидуй. Я ее, пилюлю эту, сорок лет изобретал. Проглоти с вечера, утром будешь высокий и вот с такими плечами! Сам себя зауважаешь, и все остальные, включая самых длинноногих девушек. Только больно немного будет, когда вырастать начнешь. Ты, милый, разуться не забудь, а то так и останешься с ногами тридцать восьмого размера при росте сто девяносто… Маловата подставка! И учти: если у тебя для нового, большого тела души не хватит, всю жизнь она, растянутая внутри, болеть будет…
Василий Васильевич помолчал, пожевал губами.
— Ну и как?.. Вырос твой карлик?
— Он размышлять стал, колебаться. Сам подумай: костюм надо новый покупать, ботинки, кровать тоже маловата будет. Да и профессию менять придется: он в цирке у Кио работал, в ящик залезал… Так и не решился.
— Не для газеты, — сказал Игашов. — Не ведет, не воспитывает… А вообще есть что-то в твоей притче. Можно развить…
— Да брось! Все это шутки… Я Зою из больницы беру… Завтра. Ну, прощай! — И он ушел, мелко семеня и кренясь на один бок, — жалкий и странно постаревший.
«Ишь ты, — подумал Валерий. — Переживает чего-то… А чего?.. И о ком это он мне рассказывал? На что намекал?»
— Больше откладывать нельзя, Сергей Сергеевич! — сказала Крупина, ровно и сильно дыша в телефонную трубку. — Мы исчерпали все возможности, а организм больного Манукянца — все резервы… Или завтра, или никогда.
Сергей Сергеевич почувствовал вдруг, что ему не хватает воздуха и холод возник где-то внутри, в подреберье, быстро и неприятно разрастаясь, охватывая всю грудь. Зябко дернув плечом, прижимавшим трубку, он машинально перекинул страничку календаря, занес над ней вечное перо и вдруг застыл, окостенел в этой нелепой позе.
— Так что мне сказать больному? — требовательно спрашивала Крупина. — Что мне предпринять, Сергей Сергеевич?.. Вы предупредили Богоявленскую?
— Да… — тихо ответил профессор Кулагин. — Да, она согласилась… Готовьте операционную. Я распоряжусь… Сейчас же.
— А вы, профессор?.. Вы будете?.. Мне бы хотелось, Сергей Сергеевич. Понимаете?.. И мне и всем.
Сергей Сергеевич молча провел густую ярко-синюю полосу сверху вниз по листку календаря и дальше — по картонной обложке диссертации Елены Богоявленской, которую собирался вернуть ей сегодня со своими пометками и пожеланиями, — поставил в центре обложки угловатый знак вопроса с квадратной синей точкой и тихо ответил:
— Я?.. Что ж я?.. Это мой долг, Тамара… Я в с т а н у р я д о м.
Гемодиализ — очищение крови посредством диффузии через полупроницаемые мембраны.