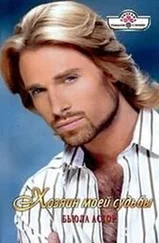Илья Борисович откинулся на спинку стула, с довольным видом наблюдал за Вениамином, лицо которого раскраснелось от волнения и от выпитой водки.
— Браво, Веня, в гусарском возрасте кто из нас не грешил… — шутливо похвалил Илья Борисович. — Доченька не травка, не вырастет без славки… Любовь не пожар, а загорится — не погасишь. Ромке эта любовь на всю жизнь… А мне так десять лет жизни отняла…
— Как-то странно получилось. Никто Юле не помог, и она предпочла смерть бесчестью, — не удержался я от сентенции.
— Вы хуже прокурора! — крикнул мне от книжного шкафа Ромка. — Меня не привлекли к суду! Я не виновен ни в чем! А вы беседовали с нею накануне. Почему все на меня сваливаете!
Спорить не имело смысла. Циник с острым, развитым умом, как видно, надеялся, что я стану извиняться перед ним или просто обижусь.
— Я здесь гость, — примиряюще ответил я ему. — Но коли разговор на откровенность, то хотелось бы знать: зачем вы увозили меня ночью к реке?
Складки кожи на шее Ильи Борисовича сжались гармошкой, он медленно переводил недоуменный взгляд с сына на Веню, с Вени — на меня.
— Мы пошутили, Александр Илларионович, — быстро нашелся Ромка. — Думали, вы во всем виноваты… Хотели с вами по душам потолковать.
— Зачем же по-разбойничьи увозить меня в лес?
— Какой там лес? Вы удрали напрасно! Там поле…
Илья Борисович таращил глаза, молчал. Вдруг резко ударил по столу ладонью так, что посуда посыпалась на пол.
— Что у вас было? Рома, докладывай, сукин сын!
— Это давно… Хотел вечером покатать Александра Илларионовича на машине, он спрыгнул и убежал, — нервно сказал Роман.
— Цыц, мерзавец! — Руки Ильи Борисовича задрожали, пальцы сжались в кулаки, он поднялся со стула, хотел было наброситься на сына, но тут же опустился на стул. — Подлец! Позоришь меня на старости лет! Я лишен из-за тебя чести… Изгнан…
Плечи его безвольно опустились.
— Вон отсюда! Вон! — кричал он вслед убегающим из гостиной ребятам.
Молчание наше длилось не менее пяти минут. Илья Борисович успокоился. Опять налил себе водки, отхлебнул.
— Прости его, Саша… Мой сын, моя надежда. Все лето он работал в колхозе, деньги больше для школы зарабатывал, чем для себя. Это правда! Еще я нанял ему репетитора из города, он занимался вместе с Вениамином. И за Дубровина я платил! Учились они по вечерам. Когда Ромка успевал якшаться с этой… Не представляю! Талантливый мальчишка! У него превосходные математические способности! И вот трагическая история!.. Недоглядел я, конечно, недоглядел… Чего уж тут кривить душой. Знал бы, женил бы стервеца! Честное слово, женил бы!
Безумна была любовь у Ильи Борисовича к сыну. Даже сейчас, узнав о преступлении Романа (а ведь ночной увоз меня в машине смахивал на бандитизм), отец думал только о спасении сына.
— Слепой родительской любви мы противопоставим комсомольский тренинг, Илья Борисович, — объявил я решительно. — Стихийная педагогика отцов и матерей, бабушек и кумушек не сможет дать полноценную личность!
— Э, Саша! — Он вяло помаячил рукой. Поднялся, закурил, прошелся по комнате. — Школа — не заповедник. От пороков жизни забором ребят не оградишь. А и от пороков ли? Вот у тебя будут дети, будет сын, как у меня, неужели ты не устроишь его наилучшим образом? Он твоя плоть, и кость, и кровь… Твое бессмертие… — Он опять помаячил рукой.
— Как же тогда, Илья Борисович, воспитывать характер?
— Характер? А что это такое? Фраза! Или что-то врожденное? У тебя глаза голубые, разве ты сможешь их перекрасить? Они останутся голубыми! Так и характер!
— Нет, Илья Борисович! — возразил я напористо. — Верю в систему воспитания! Верю, что ученика можно переделать и еще верю в комсомол.
— С кем ты намерен перековывать ребят? С кем? С пьяницей Владимиром Елизаровичем? С юными выпускницами педучилищ и пединститута? — Илья Борисович засмеялся устало и грустно.
— Напрасно вы так, Илья Борисович… — бормотал я, чтобы утешить его. — Вы ни в чем не повинны… У нас хорошие учителя…
— Да, Саша, трагедия подстерегла мой дом, мою школу… Случай, непредвиденный случай подорвал меня… Невозможно все предусмотреть… Фатума нет, от случаев никто не застрахован… Прости нас…
Мы еще долго разговаривали с ним, уже успокоясь, он рассуждал обстоятельнее. Но был сломлен бедой. Из его фраз, из всего строя его речи я понял: не верит он в возможность «изготовления» из каждого младенца целостной личности. Не по силам, дескать, это никому.
Читать дальше