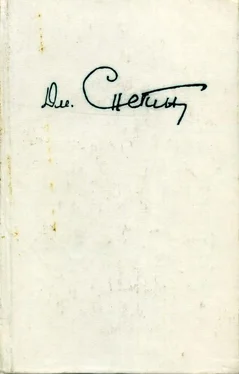Об этих снимках, об этих кострах Шумская вспомнила, когда раненых и ее вместе с ними перевели в Шепетовку. Поместили их в военном городке, живо напомнившем Надежде военный городок Владимир-Волынска, где она жила и работала.
Кормили здесь брюквой, капустным листом, тыквенной крошкой. И брюква, и капустный лист пахли жженой бумагой и тлеющим картоном. Сюда в городок со всей Шепетовки свозили книги Ленина, Сталина, Горького. На плацу устраивали гигантские костры. Вокруг костров стояли молодчики — здоровые, упитанные, мордастые. Они громко веселились, горланили маршеподобные песни. И — жгли книги.
Гигантский столб из густого дыма и пепла раскачивался на ветру.
Октябрь заявил о себе холодными, затяжными дождями. Косматые тучи ползли низко, задевая за вершины деревьев, просеивая дождь как бы через густое сито. Под таким дождем все промокает до нитки, такой дождь пронимает до костей. Лагерная охрана, не успевшая получить зимнее обмундирование, роптала. Срывала злость на военнопленных. Бои шли где-то рядом, и гитлеровцы побаивались: в этой большевистской, внезапно потонувшей в непролазной грязи России все может случиться.
Дожди прекратились внезапно. Военнопленных спешно погрузили в эшелон и куда-то повезли. Они оказались за Бугом, в польском городке Холм. Не в самом городе, а в лагере. Лагерь был огромный, и военнопленных здесь собрали тысячи. Они жили в мрачных и длинных бараках.
Шуйскую оставили при ее, как она называла, раненых. Раненых было столько и находились они в таких ужасающих условиях, что милосердием являлось пожелать им смерти. Им. И себе. Но такое и в голову не приходило. Сегодня к вечеру... завтра утром придут наши. Придет освобождение, придет возмездие. Этого ждали все, все в это верили. А пока работать, работа лечит. И Шумская работала. Иссякали силы, а она работала. Раненые все прибывали, и ей в помощь приставили молодую смазливую бабенку Ольгу: бой-баба, не боялась ни бога, ни черта. Говорила она на певучем наречии галицийских украинок, смеялась заразительно, играя ямочками, вздыхала сердобольно, сердобольно всплескивала руками. А в ее черных, открытых глазах солнце дробилось и сверкало, как в сколках антрацита.
В первый же день их знакомства она исповедалась перед Шуйской.
— Послухайтэ, Надю, шо зи мною приклучилося...
И Надя узнала: в какой-то далекий довоенный воскресный день Ольга с подругами пошла на базар. Купить, что приглянется, а больше так, развлечения ради. Приглянулся чайник. Бочкастый, весь в розовых и желтых розанах. И без очереди. («То и диво, шо без очереди»). И вдруг возле промтоварного магазина привычная, милая сердцу, очередь! За чем? Что дают? Ситец? Такой нарядный?! По тем временам — редкость. И Ольга ринулась на приступ заветной двери, сминая очередь. Дюжий милиционер осадил ее. «Ты мини лапать, червонопупый?» — вскипела Ольга и съездила служивого по голове чайником, да так, что в руке осталась одна ручка.
— Судили менэ тим рядянским судом и упрятали в лагерь на три роки. А тут война, и турнули менэ к вам, военнопленным, — строчила, как из пулемета, Ольга, играя всеми своими невозможными ямочками. — Ну, я не жалкую. Тут интересно.
Ольга обладала завидным здоровьем и была поразительно непритязательна. К тому же она принадлежала к увлекающимся натурам и относилась к превратностям судьбы, как к занимательному приключению. Правда, все это кончалось там, где начиналось подлинное испытание. В своей жизни Надежда Шумская встречала подобных людей и понимала их. Понимала она и Ольгу и старалась не открывать ей ее заблуждений. Зачем? Человеку так легче жить — в лагере. И пусть пока живет.
— А як же ты сюды попала, Надю? — пытала она Шумскую.
Шумской нравилось Ольгино жизнелюбие и ее непосредственность, но что-то удерживало ее от ответной исповеди. Однако постепенно она прониклась доверием и рассказала Ольге все, без утайки. Ольга слушала, онемев, и в антраците ее глаз жарче прежнего дробилось и сверкало солнце. Когда Шумская умолкла, она схватила ее лицо руками и зачастила с придыханием:
— Ой, Надю, да яка ж ты еврейка, чи та, по-ихнему, по-немецки — иудейка? Да ты ж била-била, волосы руси-руси, а глаза, як у кошечки, серые с зелеными искорками... Ни, не можу повирить, не можу!.. А той, партийный билет, значит, сховала дэсь, на конюшни?
— Да. Жены комиссаров и командиров нашей части, коммунистки, собрались перед эвакуацией и решили спрятать партбилеты в тайнике на конюшне нашего военного городка во Владимир-Волынском. А удостоверение личности я уничтожила еще на этапе между Шепетовкой и Холмом. Остался лишь один документ — пропуск для прохода на территорию нашей дивизии. Не могу, не в силах с ним расстаться.
Читать дальше