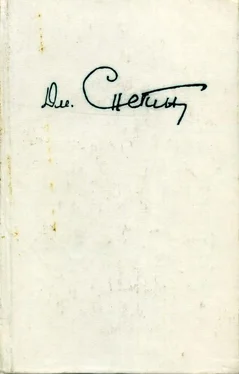Потом начали выдергивать одиночек, с разбором. Шумская видела: комиссары, политруки. Она это твердо знала, хотя не у каждого на рукаве алела пятиконечная звездочка. На комиссаров пуль не жалели. Каждого брали на прицел несколько автоматчиков. Комиссары перед смертью что-то кричали, но их слов Шумская не слышала. Ее терзала мысль: «Кто выдал тех, без звездочек на рукаве? Свои?!» Но это было бы противоестественно... «Нет, нет, у фашистов точно сработала разведка!»
Редела колонна. Реже стучали автоматы, вколачивая в душу огненные гвозди. Поднималось солнце, немилосерднее жгли его лучи. У конвоиров притупился нюх, спал азарт, они поглядывали осоловевшими глазами на пленных. Пленные сомкнули ряды, шагали дружно, скрывая усталость. Шумская думала об одном: скоро ли конец пути?
А путь только начинался.
Их, уцелевших в дороге, загнали на двор элеватора. Держали под навесами, обнесенными колючей проволокой. Пахло лежалой пшеницей и мучной пылью. Муку с элеватора гитлеровцы вывезли до того, как обнесенный глухой стеной двор приспособили под лагерь для военнопленных.
Потянулись дни, похожие и не похожие один на другой. Узнали, что находятся в Старо-Константинове. А все остальное, как вчера. Отделили здоровых военнопленных от раненых и угнали в неизвестность. А остальное, как вчера. Перестали давать баланду. А остальное, как вчера.
Наступил голод. Каждый человек с ним борется по-своему. Один замыкается в себе, другой пытается раздобыть хоть маковую росинку, третий — отвлечься определенного рода воспоминаниями, третий борется с голодом исподволь: боится шевельнуться, чтобы не истратить остаток сил. Но все одинаково хотят есть.
Шумская поступила иначе. Она сказала себе: «Это не фашисты лишили меня еды, а я с а м а... сама объявила им голодовку!» Но и она хотела есть. Можно было бы, как в сказке, поскрести-помести по сусекам, и обязательно на колобок набралось бы, но их держали взаперти, под навесом, за колючей проволокой, где ни пылинки мучной, ни соринки овсяной.
Зато на воду фашисты не скупились, каждое утро разрешали наливать полную колоду. Из этой колоды и пили военнопленные. Они пили, а какой-то чин из караульной команды добродушно скалил литые зубы:
— Пей... пей много!
Однажды он велел всем выйти и помочь выйти тем, кто без посторонней помощи не мог ходить. Погнал в глубь обширного двора. Там стоял большой, сбитый из грубоструганного теса ларь. Охранник встал возле ларя по стойке смирно. На его груди болтался автомат, в руке — резиновая дубинка. Откинув крышку ларя, он торжественно произнес:
— Здесь есть много проса. Каждый подходит по очереди и берет одной рукой столько проса, сколько возьмет. Это дневной паек. Просо оччен вкусно. Ахтунг: все понял? Подходи, бери и крепко зажимай, чтобы не рассыпать. Понял? — Он был щедр, добр и дороден. Золотистый здоровый загар уже успел покрыть его лицо, толстую шею, сильные, оголенные до локтей волосатые руки.
Просо было не обрушенное. Каждое зернышко покрывал глянцевитый крепкий панцирь. Оно текло между пальцев, как ртуть. Чем крепче сжимаешь пальцы, тем меньше остается проса в ладони. А оно такое хлебное, такое супное, такое кашное! И — текучее. Хочется зачерпнуть его побольше, рука сама во второй раз погружается в сусек. Фашистский автоматчик незлобиво бьет по руке резиновой дубинкой, незлобиво смеется, выставляя напоказ крепкие литые зубы.
— Нельзя!
— Бери один раз — сколько можешь!
— Пошел!
Шумская сделала ладошку ковшиком, зачерпнула проса полную жменю — горкой и понесла, выставив руку вперед, чтобы не рассыпать драгоценные зерна. Охранник увидел ее и еще шире заулыбался.
Когда Шумская поравнялась с ним, он коротко ударил по руке дубинкой, и зерна брызнули во все стороны, будто ими выстрелили. Надежда не вскрикнула, не остановилась. Ее остановил окрик:
— Назад!.. Еще бери.
Она вернулась к сусеку, опять сделала ладошку ковшиком и опять зачерпнула полную жменю проса — горкой. И, выставив вперед руку, пошла. Когда поравнялась со своим мучителем, глянула на него. Их взгляды столкнулись. Фашист улыбался, но в его глазах клубился холод ненависти. Пальцы, сжимавшие резиновую дубинку, побелели от напряжения. А Шумская шла и несла на вытянутой ладошке горку проса. Просо золотилось под солнцем и благоухало запахами луга и пашни.
С тридцать третьего года в журнале «Огонек» начали публиковать снимки: костры в Берлине, костры в Нюрнберге, костры по всей Германии. Вокруг костров ликующие молодчики — здоровые, мордастые, и в полувоенной форме со свастикой на левом рукаве. А в огне — книги Маркса, Ленина, Тельмана; книги Гейне, Толстого, Фейхтвангера.
Читать дальше