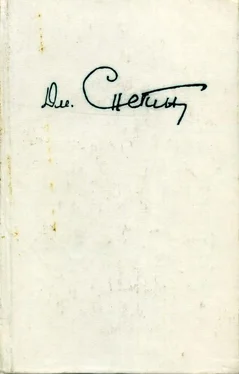— Наши наступают?
— В крепости бьются, — ответила тетя Катя. — Не сломили.
— И не сломят!
Фурсов в этом убежден: не сломят. Они сделали все, что могли. Они — это старшина Кипкеев, Никита Соколов, лейтенант Полтораков, Нури Сыдыков, капитан с обуглившимися глазами. И он — Фурсов. И санинструктор Песочников. И полковник. И те, кто до сих пор держится, сражается в крепости. Прикажи сейчас Дулькейт: «В ружье!» Поднимется весь госпиталь и ринется на подмогу тем, в крепости. Чтобы продержаться до прихода главных сил Красной Армии.
Крепость бомбят, как по расписанию — с трех до пяти ежедневно. С каждым днем убывает, скудеет паек. Изменилась и тетя Катя. Лицо ее потемнело, глаза ввалились, на скулах кожа натянулась и покрылась матовыми пятнами, как если бы ее натерли ученической резинкой. Прежде она охотно говорила, теперь больше молчит, даже тогда, когда кормит его баландой. Владимир хочет спросить: «Куда девался Дулькейт?» И не спрашивает. Черт с ним, с Дулькейтом и его котлетами? Пришли бы врачи, посмотрели, что там, под гипсом.
Ни врачей, ни похлебки. По госпиталю поползли слухи: фашисты решили по-своему расправиться с ранеными за те потери, которые они несут от защитников крепости. Уморить голодом или сгноить заживо. А тех, кого не возьмут ни голод, ни раны — в Южный городок. Тетя Катя рассказывает: там наших тысячи; мрут, как мухи.
— Капля воды дороже золота, об еде и говорить не стоит. Люди на себя руки накладывают.
«Накладывают», — соглашается Фурсов. В нем зреет решимость — покончить с собой. Зачем ему в Южный городок врагам для счета? И чтобы его волокли туда, как колоду?.. Ему еще достанет здравого смысла покончить с собой, чтобы не быть в тягость ни тем, кто сражается в Брестской крепости, ни тете Кате, ни матери родной!
Вкрадчивым голосом Фурсов подзывает тетю Катю.
— Попить? — участливо склоняется над ним женщина.
— Да, — Владимир облизывает губы.
— Господи, да ты как глядишь-то? Страх-то какой, не иначе отходить собрался. — Она подносит к его рту стакан воды.
Фурсов не пьет, еще вкрадчивее говорит:
— Тетя Катя, вы у меня единственный на земле друг.
— Друг, друг... На вот, пей!
— Вы должны спасти меня.
— Ой, родненький, да что с тобой? — пугается тетя Катя, чуя недоброе.
— Достаньте яду, — трезво говорит Фурсов.
Стакан выпадает из рук тети Кати, кожа на скулах натягивается сильнее прежнего; проступают матовые пятна.
— За кого ты меня принимаешь, ирод проклятый? — гневно отчитывает она Владимира. — Без тебя мало страданий... Я к нему всей душой, а он, ишь, что надумал! — у нее на глаза набегают слезы. — Так меня еще никто не обижал...
Она не подходит к нему, не замечает день, другой, как будто его нет в палате. «Потом простит», — думает Владимир. Он не зовет больше тетю Катю. Ему лучше: никто не мешает. Он на руках подтянулся к изголовью, подушку взбил горкой, чтобы легко было соскользнуть с кровати. Ему никого и ничего не надо. Только бы скорее наступила ночь. Последний день, последняя ночь. Ни страха ни жалости... Летняя ночь пришла с запозданием. Угомонилась палата. Не видно тети Кати. Фурсов достает из-под головы длинное вафельное полотенце. Один конец привязывает к металлическому изголовью кровати, другим — обвивает себя вокруг шеи, а потом завязывает просторным узлом, чтобы петля сразу захлестнула. Так оно и случится: тело тяжелое, как дубовая колода. Только бы не захрипеть, только бы не испугаться. Кто сказал, что покончить с собой — малодушие? Ложь... Важно, чтобы тебе не мешали. Во второй раз на такое не решишься. Пока нет тети Кати — вниз, вниз, вниз...
Обруч внезапно распался, и жгучая боль опоясала шею. Сладкий воздух полился в легкие. Звонко и радостно зазвенело в ушах: живу, живу! Возле постели стояла тетя Катя, с ее левого плеча струилось, как водопадик, узкое полотенце. Фурсов ощутил на губах водяную пыль, точь-в-точь такую, какая стоит над порожистой, стремительной речкой Кашкасу. И сразу все вспомнил. И отвел от тети Кати взгляд.
— Не отворачивайся, погляди мне в глаза, — повелительно сказала тетя Катя.
Он поглядел. Тетя Катя стояла похудевшая, обессиленная и, казалось, незримый ветер качал ее. Лицо замкнутое, суровое, неприступное.
— Не Дулькейт, а ты предатель, — сказала тетя Катя и ударила Фурсова по щеке своей сухой ладошкой.
Ей еще хватило сил выйти из палаты. В коридоре она беззвучно расплакалась. Она-то понимала, ради какой жизни спасла от петли оставшегося без ноги чудного рыжего красноармейца.
Читать дальше